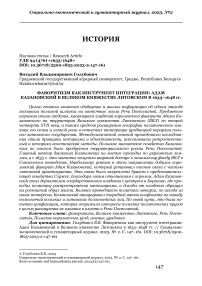Фаворитизм как инструмент интеграции: Адам Казановский в Великом княжестве Литовском в 1633-1648 гг.
Автор: Голубович В.В.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (28), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является обобщение и анализ информации об одном эпизоде экспансии польской шляхты на восточные земли Речи Посполитой. Предметом изучения стали сведения, касающиеся владений королевского фаворита Адама Казановского на территории Великого княжества Литовского (ВКЛ) во второй четверти XVII века, а также средств расширения географии политического влияния его семьи и личной роли в попытках интеграции урядницкой иерархии польско-литовского государства. Методологической основой проведенного исследования стали принципы историзма и объективности, использованы ретроспективный и историко-генетический методы. Польское магнатское семейство Казановских во многом было продуктом территориального роста Речи Посполитой. Главный вектор движения Казановских на восток проходил по украинским землям, а с 1633 г. эти магнаты получили широкий доступ к земельному фонду ВКЛ в Смоленском воеводстве. Наибольших успехов в этом направлении добился королевский фаворит Адам Казановский, который установил тесные связи с частью литовской аристократии. Эти связи были закреплены браком с представительницей семейства Служек. Благодаря своим отношениям с королем, Адам Казановский стал держателем государственного владения с центром в Борисове, где проводил политику распространения католицизма, а доходы от владения обращал на роскошный образ жизни. Являясь проводником политики монарха, но исходя из своих интересов, Казановский инициировал очередной виток конфликта по поводу полномочий польских и литовских должностных лиц. По своей сути, это была попытка унификации, которая отражала интересы польских политических кругов с целью расширения их влияния и власти в Речи Посполитой.
Фаворитизм, великое княжество литовское, речь посполитая, польское королевство, уезд, имение, урядники
Короткий адрес: https://sciup.org/140301476
IDR: 140301476 | УДК: 94 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-2-147-161
Текст научной статьи Фаворитизм как инструмент интеграции: Адам Казановский в Великом княжестве Литовском в 1633-1648 гг.
Введение. Фаворитизм как социальное явление сопровождает всю историю человечества, но особенно устойчиво ассоциируется с политическими системами, источником власти в которых признается одно лицо – монарх. Формально этот пережиток прошлого сохраняется в открытом или латентном виде при модернизированных государственных институтах. Именно фаворитизм является одним из трамплинов, позволяющих отдельным лицам и целым семействам делать скачок вверх по социальной лестнице. В традиционных обществах с жесткими ограничениями для вертикальной социальной мобильности такой аванс имел свои пределы, но отнюдь не являлся исключением. По твердому убеждению одного из представителей аристократической элиты Речи Посполитой, «ни одна семья не возвысилась и ни один человек не состоялся без королевской милости» [1, с. 137].
Именно монархам принадлежала заслуга создания «новых людей» в шля- хетской республике, как образно называют Речь Посполитую. Примером могут быть два первых короля шведской династии Ваза, за время правления которых число наследственных магнатских семейств в польской части Речи Посполитой увеличилось втрое [2, с. 128]. Среди них были и те, чей взлет в прямом смысле был обязан служению не так государству, как лично монарху, его семье. Красноречивой иллюстрацией этого была история польского семейства Казановских, сумевших в конце XVI – первой половине XVII в. не просто войти в состав политической элиты, но и получить доступ к неформальному влиянию на монарха. Первостепенная роль в этом принадлежала Сигизмунду Казановскому (ок. 1563–1634 гг.), карьера которого началась в армии, но главным его достижением стало участие в воспитании королевского сына, будущего монарха Владислава Вазы [3, с. 259].
Ловкий педагог сумел превратить королевича в друга своего семейства, потворствуя, вопреки настроениям Сигизмунда Вазы, отношениям со своими сыновьями – Станиславом и Адамом. Сам королевич Владислав еще в 1617 г. предпочитал дружбу со Станиславом, но во второй половине 1619 г. произошла перестановка ролей. Причины смены симпатий Владислава остаются тайной, но фактом является то, что с 1620 г. и до смерти в 1648 г. Адам Казановский cтал его ближайшим приятелем [4, с. 57–58].
Любая служба или услуга, оказанная власть предержащим, имеет свою цену. Не были альтруистами и Казанов-ские, которые активно конвертировали благожелательность монархов в карьерные «достижения», которые в Польском Королевстве, как правило, были неотделимы от соответственного материального обеспечения [2, с. 99, 105]. Трансформация шляхетского рода Казановских в магнатский произошла в послелюблин-скую эпоху и была в значительной степени обусловлена ростом его владений на территории Украины [5, с. 91, 189, 194– 195; 6, с. 509, 514–517, 521–522], а после 1618 г. и на землях, приобретенных Ре- чью Посполитой по результатам Деулин-ского мира.
Результаты исследования и их обсуждение. Смоленский ключ к великому княжеству. Значение магнатского рода в первую очередь определялось его экономическим потенциалом, то есть размерами собственных латифундий и дополнительных источников доходов от держания государственных земель, так называемых королевщин (ста-роств, волостей и пр.). Создать такой фонд в 20–30-е годы XVII в. в Речи Посполитой стало проще, благодаря успешной внешней политике монархов династии Ваза. Еще в 1620-х годах Казанов-ские по линии Сигизмунда и его сына Адама приняли участие в разделе и эксплуатации новых земель на Чернигово-Северщине, которая оказалась в составе Польского королевства с 1618 г. [7, с. 162, 268, 432, 434–436]. Продвижение на восток, через приобретения в Смоленском воеводстве, являвшемся частью Великого княжества Литовского, шло медленнее, но компенсация за ожидание того стоила. Счастливая оказия для кратного увеличения своих владений за счет земель на территории ВКЛ представилась Сигизмунду и Адаму Казановским с приходом Владислава Вазы к власти (после коронации в 1633 г.), но главным образом в связи с текущими политическими событиями, в первую очередь Смоленской войной (1632–1634 гг.). Владислав, особо не располагая иными возможностями выказать Казановским благодарность за верность, щедро раздавал земли на Смоленщине.
Размер приобретений Адама Каза-новского в Смоленском воеводстве полностью соответствовал его статусу. Польский историк М. Нагельский не преминул отметить тот факт, что именно литовские и коронные урядники и сановники получили от короля наибольшие наделы, в десятки раз превосходящие наделы боевых офицеров и рядовых [8, с. 55].
Уже в лагере под Смоленском король поощрил своего фаворита за счет передачи ему 7 марта 1634 г. на ленном праве нескольких деревень в Еленевском стане, которые ранее принадлежали Яну Амфоровичу, со скромной оговоркой о присоединении к этим деревням дополнения в виде 700 волок пущ «одним отрубом» и разрешением производить в них лесные товары [9, л. 340об.–341]. Вслед за этим подарком 4 августа 1634 г. в Варшаве Адам Казановский был также награжден за службу королю и Речи Посполитой дополнительными земельными владениями в Смоленском воеводстве. Любопытным отличием этого королевского пожалования было то, что общие размеры данного приобретения Адама фактически невозможно вставить в наличную систему землеописания, так как речь шла о десятках деревень и пустовавших земель, ранее принадлежавших разным владельцам, среди которых были разного рода князья [9, л. 495– 496об.]. Не обошел заботой Владислав и отца Адама. Сигизмунд Казановский, коронный подкоморий, староста кокенгау-зенский, также оказался в группе награжденных наибольшим наделом: в Вильно 29 июня 1634 г. он получил привилегию на 600 волок земли в Поповой Горе [8, с. 55; 10, л. 216–217]. Помимо прямых королевских пожалований, Адам Казановский самостоятельно прилагал усилия по еще большему увеличению своих владений на Смоленщине, о чем свидетельствует приобретение им в ноябре 1635 г. 12 деревень в Малаховском стане у королевского камердинера Каспера Понятовского [11, л. 1–1об.].
В результате пожалований Владислава и собственных приобретений Каза-новский Адам превратился в крупнейшего землевладельца Смоленского воеводства, где ему принадлежало 459 дымов (единиц налогообложения) [12, с. 233], которых хватало для доминирования в обоих поветах [13, с. 34, 40]. Еще на 1650 г. супруга Адама Казановского, унаследовавшая его имущество, судя по подымной переписи воеводства, входила в число 30 собственников, имевших наибольшие владения в Смоленском повете, а по величине дымов занимала вполне приличное седьмое место [13, с. 34].
Литвинская жена и литвин-ское владение. Однако экономические интересы были не единственным основанием для активной экспансии поляков на востоке Речи Посполитой. Появление Ка-зановских на территории ВКЛ в его доде-улинском масштабе стало результатом стремления расширить политическую географию своего влияния за счет установления тесных контактов с представителями литовской аристократии, в частности, протестантской группировкой рода Радзивиллов [14, с. 45] во главе с влиятельным, но находившемся в немилости у монарха, Христофором Радзивиллом (1585–1640 гг.), на тот момент занимавшим должность полевого гетмана ВКЛ [15, с. 17–18]. Для достижения этой цели была избрана практичная матримониальная стратегия.
Формальной зацепкой, по-видимому, стал случай пребывания на королевском дворе тогдашнего мстиславского воеводы Александра Служки, который входил в число сторонников Радзи-вилов. В течение первой декады 1628 г. А. Служку фактически вынудили под давлением, в том числе со стороны королевского сына Владислава и Х. Радзивилла, заключить договор о будущем браке девятилетней Эльжбеты Служки и 29-летнего Адама Казановского. Судя по разнице в возрасте, запланированный брак не мог быть плодом любви, а представлял собой вполне земную сделку на перспективу.
По объективным причинам Александр Служка не мог отдать дочь замуж до достижения совершеннолетия, которое наступало в 14 лет, но договариваться об условиях брачного контракта никто не запрещал. В числе выдвинутых со стороны невесты требований было приобретение на территории ВКЛ недвижимости за 100 тысяч польских злотых [14, с. 45]. Как отсрочка, так и сумма, Казановского не испугали: он от своих намерений не отказался, несмотря на произошедшие изменения в его собственном статусе. Коронация Владислава раскрыла перед Казановскими все двери, в том числе они стали ускорять подготовку брачного процесса, который предлагали завершить уже весной, во время пребывания монаха в ВКЛ [14, с. 45]. Но самое интересное, что к весне 1633 г. Адамом Казановским не было выполнено важнейшее условие – приобретение владений в ВКЛ. Перелом в этом деле наступил после передачи Адаму Казановскому Борисовского ста-роства, которое, однако, являлось только держанием, а не собственностью, но, несомненно, стало точкой отсчета в поиске подходящего имения. Возможно, у королевского фаворита были готовые варианты покупки владения в ВКЛ к весне 1633 г., но еще до середины лета этот вопрос оставался открытым.
По-видимому, катализатором решения стала смерть виленского воеводы и великого гетмана ВКЛ Льва Ивановича Сапеги. После «торжественной» кончины патриарха литовской политики на банкете в Вильно 7 июля 1633 г. его обширные жизненные приобретения перешли к наследникам [16, с. 100–102], а от кое-чего было решено избавиться. В частности, сыновья Сапеги быстро оформили сделку о продаже владения Чашники в Полоцком воеводстве Адаму Ка-зановскому.
Поспешность, с которой была проведена акция, и то, что к 26 июля 1633 г. был готов подробный инвентарь чашницких владений, может свидетельствовать о том, что с Сапегами имелась предварительная договоренность о продаже [17, c. 256–281]. Сумма, выложенная Казановским за Чашники, составила 150 тысяч польских злотых и существенно превосходила объем первоначальных обязательств [12, с. 233; 18, с. 628]. Для сравнения: годовой доход от местечка и прилегающих к нему земель достигал 3857 коп литовских грошей, или в злотых 10 тысяч [17, c. 281].
Как обязательное условие брачной сделки, покупка Чашников была способом обеспечения гарантий невесте, но также имела престижный характер. Следует обратить внимание на то, что название новоприобретенного имения стало обязательным элементом титула королевского фаворита и обозначением его принадлежности к привилегированной группе собственников: «Адам из Казанова на Чашниках Казановский, маршалок надворный коронный…» [19, л. 98]. Интересно, однако, что приобретение Адама Казановского после его смерти не ото- шло его польским родственникам, а по завещанию стало собственностью Эльжбеты, которая после второго скандального брака доживала там свой бурный век [14, с. 47]. Таким образом, сам Казанов-ский вернул Чашники в руки литовской аристократии, то есть Служкам.
Финалом затянувшегося ожидания стала свадьба Адама Казановского, которая прошла в июне 1634 г. в Вильно. Неординарность мероприятия определялась составом присутствовавших, среди прочих был Владислав Ваза. Королевский подарок фавориту представлял собой вложенный в золотой кубок гарантийный лист на сумму 20 000 золотых. По оценкам присутствовавшего на мероприятии литовского канцлера А.С. Рад-зивилла, все остальные подарки стоили около 40 000 золотых, но монарх дарил именно деньги, правда, во избежание новых ожиданий королевской щедрости в дарительном акте было оговорено, что такая форма подарка носит исключительный характер [20, с. 381].
Пролог к свадьбе: литвинское староство. По настоящее время в белорусской историографии сохраняется неопределенность относительно времени получения Борисовского староства А. Ка-зановским. В частности, в энциклопедической статье, подготовленной В. Носе-вичем, указывается, что около 1635 г. староство было отдано «под залог поляку А. Казановскому» [21, с. 294]. Акцент на этом «трагическом» обстоятельстве не освобождает от необходимости прояснения реалий, которые несложно восстановить по доступным источникам. В государственном архиве ВКЛ сохранилась копия привилегии Казановскому на Борисовское староство, а выдан был этот документ монархом во время коронационного сейма 9 февраля 1633 г. [22, л. 17– 19]. Стоит обратить внимание на то, что именно с копии этого документа начинается серия книг записей Метрики ВКЛ, которые велись в госканцелярии. Нет особой необходимости в объяснении, почему именно Адам Казановский оказался первым в очереди получателей, но само то, что записи в актовых книгах канцелярии ВКЛ начинаются с передачи старо-ства на территории ВКЛ коронному уряднику, представляется фактом если не скандальным, то довольно вызывающим. Владислав Ваза вообще был склонен к принятию неоднозначных кадровых решений, но в данном случае важная деталь позволила ему не учитывать мнения влиятельных семейств ВКЛ.
Дело в том, что предыдущим держателем староства был, по-видимому, не кто иной, как сам королевич Владислав. В рамках реализации сеймовой конституции 1626 г. о дополнительном материальном обеспечении отпрысков Сигизмунда [23, с. 238] в конце 1620-х годов Владислав получил ряд староств в Польше и ВКЛ [4, с. 79, 82; 24, с. 40]. Относительно успехов королевича в качестве борисовского администратора есть сомнения [24, с. 40], что подтверждается документально. Так, при его пассивном согласии Сигизмунд Ваза 22 февраля 1627 г. выдал борисовским мещанам привилегию на право проведения торгов раз в неделю, по понедельникам [25, л. 34–34 об.]. Отдельным эпизодом в истории староства является попытка передачи его в 1629 г. Альберту Станиславу Рад-зивиллу, канцлеру ВКЛ, который в результате отказался от пожалования [26, с. 147]. К слову, в канцелярии ВКЛ не было даже фиксации этого акта в реестрах за 1629 г. [25, 27], так что старо-ство осталось в распоряжении Владислава, который, в свою очередь, передал его в распоряжение Адама Казановского. Из этого подарка Казановский извлек для себя максимум выгоды, минимизировав доходы королевского сына [20, с. 235; 28, с. 405].
Для Владислава Борисовское старо-ство было всего лишь одним из источников, причем, временного дохода, который он терял при смене статуса. Дело в том, что еще на последнем сейме Речи Посполитой, прошедшем при жизни Сигизмунда Вазы в 1632 г., была утверждена законодательная норма, а точнее конституция «Обеспечение наисветлейшего нашего потомства», в соответствии с которой при приобретении иных источников доходов прежний фонд содержания королевских детей поступал в число обязательного для раздачи шляхте, но Владислав в законе не упоминается [23, с. 338–339].
Написанная на латинском языке привилегия Казановскому сама по себе стандартна, хотя содержит ряд интересных деталей. В документе было отдельно оговорены права держателей земель, которые ранее пожаловал сам Владислав. В частности, речь шла о двух деревнях Медча и Велятичи, отданных на правах пожизненного пользования Христофору Володкевичу [22, л. 18 об.]. Данная привилегия была выдана еще в 1628 г. и подтверждена в 1634 г., как утверждается, с целью защиты от посягательств А. Каза-новского [29, с. 229–230]. Однако содержание документа, который получил Х. Володкевич 19 июня 1634 г., скорее, позволяет утверждать обратное. С одной стороны, монарх гарантировал этому шляхтичу право на владение и даже расширил его за счет дополнительных деревень (Застенок и Аврамков) с правом пожизненного пользования ими для своей супруги. Но, с другой стороны, в документе было зафиксировано положение о возможности отнятия пожалования на условиях некой адекватной компенсации [9, л. 390 об.–391]. На этом основании всесильный фаворит мог в любой подходящий момент избавиться от претензий К. Володкевича. Подобным образом в привилегии на староство Казановскому было оговорены гарантии для Яна Вислоуха, который на праве пожизненного владения держал владение Ратутичи [22, л. 18 об.].
То, как Казановский собирался заниматься новоприобретенным старо-ством, красноречиво свидетельствует следующее распоряжение Владислава. Находясь в Гродно 2 июня 1633 г., по пути следования на театр военных действий к Смоленску монарх подписывает разрешение на сдачу Борисовского ста-роства в аренду на четыре года на любых удобных фавориту условиях с единственной оговоркой о том, чтобы подданные не выполняли необычных по- винностей, а королевские владения не доводились до разорения [22, л. 366об.– 367]. В этом документе имеется довольно откровенное объяснение для всех, «кому о том знать следовало», что такое доверие принципиально вызвано тем общим принципом, в соответствии с которым каждому, кто «нам и Речи Посполитой служит, надлежало успешно пользоваться нашей королевской добродетельностью и щедростью» [22, л. 366об.]. Высокопарный цинизм этой формулы легко дешифруется: если Владиславу фаворит действительно служил, то Речь Посполитую успешно использовал. Судьба этого распоряжения Владислава не совсем ясна, но оно, по-видимому, не касалось лесных угодий староства. Уже в лагере под Смоленском Казановский, на тот момент уже коронный стольник, выпросил у Владислава очередную «вольность». 13 сентября 1633 г. фаворит получил за свои военные заслуги и придворную службу право на тотальную эксплуатацию лесных угодий пущи, примыкающей к Борисовскому староству [9, л. 160 об.–161]. Казановско-му разрешалось в течение 5 лет организовывать изготовление и продажу любых лесных товаров без выплат и сборов, о чем надлежало знать ответственным за налоговые поступления должностным лицам, в первую очередь государственному казначею, то есть земскому под-скарбию ВКЛ [9, л. 161].
Государственное и частное «партнерство». Как отмечалось выше, выбор имения Чашники не был случайным приобретением Адама Казанов-ского в ВКЛ. Дело в том, что владение это непосредственно граничило с Борисовским староством, что упрощало общее управление и одновременно предоставляло возможности для реализации приватного интереса за счет государственного земельного фонда. Забота о собственном материальном благе заставляла Казановского обращаться к монарху в ситуации, которая этому не совсем соответствовала. Так, находясь в военном обозе под Смоленском, Владислав пошел навстречу Казановскому и 12 октября 1633 г. подписал распоряжение о созыве комиссии по вопросу разграничения земель имения Чашники и Борисовского староства и тогда же выслал приказ земскому подскарбию ВКЛ Стефану Пацу об санкционировании мероприятия. Шедшая война не была препятствием: соответственная комиссия была оперативно выслана на место, проведя осмотр, 3 ноября 1633 г. она установила, что спорные территории следует присоединить к владению Слобода Нача, являвшемуся частью Чашницкого имения. Основанием для этого стало то, что борисовские бояре Савицкий и Новосад не смогли документально подтвердить свои права на ряд земель, которыми ранее распоряжались. Соответственно, комиссары присудили спорные угодья Казановскому, правда, без упоминания о наличии у последнего каких-либо прав. В этой ситуации староста объективно действовал в ущерб государственной собственности, подтверждением тому было отсутствие претензий к Борисовскому староству со стороны прежних владельцев Чашницкого имения. Финальным аккордом этого «неотложного» дела стала резолюция Владислава, выданная в Варшаве 30 августа 1634 г., суммирующая все дело в пользу Казановского [30, л. 160–163об.].
Поляк, уния и костел. Кстати говоря, через пожалованное Казанов-скому староство Владислав проследовал по дороге в Смоленск, более того, останавливался в самом Борисове. Этот визит отмечен был подтвердительной грамотой, выданной 8 августа 1633 г. Андрею Климентеевичу, священнику построенной в Борисове церкви, освященной в честь Св. Георгия. Как выясняется из привилегии, на территории староства, по распоряжению Казановского, для содержания церкви выделили и освободили от повинностей, а также выплат налогов в казну, четыре волоки земли, две около деревни Некановичи и еще две при деревне Погодицы [9, л. 136–136об.]. Владислав подтвердил распоряжение Каза-новского, но при этом было оговорено важное условие, а именно пребывание церкви в унии. Местный священник отдельно обязывался находиться «под верховенством Архиепископа своего По- лоцкого, и службу Божую в той церкви служить, и как за нас господаря, так и за королевство наше Господа Бога просить» [9, л. 136]. Речь тут идет о подчинении униатскому полоцкому иерарху, каковым являлся на тот момент Антоний Селява [31]. Последняя деталь явно исходила от самого Владислава, за фасадом толерантности которого государственная машина Речи Посполитой проводила вполне определенную политику, и там, где было можно, он гарантировал униатам и вообще католикам их права. Непосредственным развитием этого стала фундаторская активность Казановского в начале следующего десятилетия. В сентябре 1642 г. по его распоряжению в Борисове стали возводить католический храм [32, с. 294], а в следующем году Ка-зановский добился от Владислава подтверждения передачи на содержание ксендза специально отделенных от старо-ства владений. Последняя манипуляция была проведена в Варшаве в течение двух суток: 1 мая 1643 г. был составлен фунда-ционный акт, 2 мая монарх его одобрил, а копию заархивировали в канцелярии ВКЛ [19, л. 98–99]. Акт, составленный для Ка-зановского, довольно любопытен с точки зрения характеристики религиозной жизни в королевском старостве. Так, из документа следовало, что в Борисове и прилегающих местностях католиков было «немало», но из-за отсутствия в городе места для обучения или костела, а также отдаленности других храмов, многие «без наставника спасительной науки впали в заблуждения и схизму». Следуя желаниям своего фаворита, Владислав согласился с передачей на содержание костела старо-стинского фольварка Ратутичи с деревнями Новоселки и Кленок, а также трех земельных участков для плебании, то есть дома для священника, функции которого на тот момент выполнял смоленский каноник Симон Чарторийский [19, л. 98об.]. Можно также отметить, что формально передача фольварка Ратутичи не особо сказалась на доходах старосты, так как это владение еще на основании номинационного акта 1633 г. было исключено из его компетенции до смерти держателя Я. Вислоуха [22, л. 18об.].
Направления хозяйственной активности старосты: два сохранившихся свидетельства . Из документально зафиксированных распоряжений Казановского, касающихся Борисовского староства, следует упомянуть привилегию для Федора (Ходки) Василевича и его пасынков Константина и Кузьмы Макаревичей на застенок (земельное владение), который размещался при мельнице на реке Схе. В обязанности подданных входило обслуживание, ремонт, строительство мельницы, а также плотницкие работы при дворе старосты в Борисове. Во время проезда через Борисов 15 июня 1634 г. монарх подтвердил распоряжение Казановского [9, л. 427об.–428]. Сама процедура оформления своих распоряжений в канцелярии ВКЛ является свидетельством понимания со стороны Казановского ненадежности выданных им документов без санкции монарха.
Всплеск активности в отношении Борисовского староства имел место в марте 1640 г. 26 марта, находясь в Варшаве, монарх подписал два документа, непосредственно затрагивающих интересы борисовских мещан, но напрямую касающихся Казановского. По не совсем понятным причинам (возможно, мещан просто вынудили это сделать с целью получения денег за конфирмацию) жители Борисова обратились к монарху с просьбой о подтверждении выданного им еще 12 августа 1595 г. положения о взимании подводной повинности. Владислав подтвердил данный еще его отцом документ, но с оговоркой, за которой явно просматривалась физиономия королевского фаворита «так, однако, чтобы не пострадали доходы и права нашего борисовского старосты» [32, л. 488 об.– 489]. В отдельном порядке, но без упоминания о старосте монарх «декларировал» размеры обязательного подводного сбора за проезд через сам Борисов: за милю с лошади по полтора, а с подводы по полгроша [32, л. 489]. Эти доходы формально шли на город, но их конечным распорядителем, по-видимому, был староста. Пожалуй, единственным плю- сом для мещан был иммунитет от постойной повинности.
Полезный подарок в столице ВКЛ . В компетенции монарха Речи Посполитой как главы государства находилось распоряжение так называемым вы-мороченным имуществом, стоимость которого могла быть таковой, что им не брезговали даже магнаты, в том числе ранга Казановского. Последнему такой случай представился в начале 1634 г., когда Владислав, желая увеличить « не только почет, но и разнообразный достаток » своего фаворита, передал ему собственность не оставившего наследников еврея Моисея Соломоновича, происходившего из Праги (без уточнения чешской или польской). В пожаловании от 18 февраля 1634 г. отмечалось, что Казанов-скому доставалось как движимое, так и недвижимое имущество Соломоновича, в том числе « каменный дом, называемый Балашковский » в городе Вильно. Именно дом в столице ВКЛ был самой дорогой частью подарка, который городские власти должны были незамедлительно передать в собственность Казановского [9, л. 313 об.– 314]. Вероятно, данное распоряжение было сделано с прицелом на частое пребывание Казановского в Вильно, с учетом вы-шеобозначенных личных обстоятельств и служебных обязанностей Казановского, а также для удобства во время частых визитов монарха в ВКЛ.
Первый среди своих: возможности влияния среди чужих. Приобретения Адама Казановского в ВКЛ после 1633 г. следует признать значимыми для его престижа и материального благополучия, но они не шли в сравнение со статусными изменениями и ростом его богатства, собственно, в Польском королевстве. Уже на коронационном сейме ему достался пост стольника, а через год в 1634 г. – коронного подкомория. В 1630–1640-х годах в его руках оказался целый ряд староств и даже солеварное предприятие на территории Польского королевства [34, с. 252–251]. После смерти подольского воеводы и полевого коронного гетмана Мартина Казановского именно Адам становится лидером семейной группировки [35, с. 114]. Но позиция фа- ворита при дворе не распространялась на политические институты республики, в частности, на парламент, где влияние как Казановских, так и их свояков из ВКЛ, Служек, было малозаметным [35, с. 114–115]. Собственно, альянс со Служками давал Казановским сомнительные козыри для влияния в великом княжестве. В глазах местной аристократии Служки были семейством захудалым, выскочками, а их политический вес обусловливался принадлежностью к придворной промонархически настроенной партии [12, с. 232; 36, с. 65]. Большая доля истины есть в крайней оценке места персонального авторитета Служек, среди которых по иронии судьбы именно жена Казановско-го, Эльжбета, признается наиболее влиятельной фигурой [12, с. 232].
Весь накопленный в Польше политический и материальный капитал, так же, как и получение пожалований и ста-роств в ВКЛ, как и покупка собственности и брак с представительницей местного семейства, не трансформировали Каза-новского в заметного игрока на локальной литовской политической сцене. Но свои возможности влияния у фаворита были, поскольку именно он стоял за многими кадровыми решениями монарха, одно из которых определило вектор усиления позиций Адам Казановского в ВКЛ.
Конфликт маршалков: попытка унификации или интеграции? Вершиной должностных достижений, отражавших масштабы влияния Ка-зановского, стало его назначение в октябре 1642 г. надворным маршалком Польского королевства ( федеративная конструкция Речи Посполитой предполагала дублирование польской и литовской урядницкой иерархии и в первую очередь так называемых министерских должностей, к числу которых относились великий и надворный маршалки, главной обязанностью которых являлось обеспечение безопасности монарха ) [34, с. 251].
Занятие этой должности напрямую втягивало королевского фаворита в застарелый конфликт между коронными и литовскими урядниками [37, с. 76–77; 38, с. 139–141; 39, с. 353–356, 394–400], а в силу новых полномочий Казановский получил плацдарм для расширения своей власти в ВКЛ. Талантливый и опытный придворный интриган, Казановский вскоре после назначения инициировал новый виток напряжения, для чего было выбрано время очередного Варшавского сейма. Уже в первый день фактической работы парламента (12.02.1643 г.) Каза-новский предпринял попытку надавить на короля и поставить на голосование вопрос о передаче власти именно надворному коронному маршалку, а не великому маршалку ВКЛ, в случае, если великого коронного маршалка не будет на территории Польского королевства [40, с. 339]. Помимо этого, желая подчеркнуть свой высокий статус, он предложил провести ревизию сеймовой конституции 1635 г., которая четко определяла порядок занятия коронными надворными маршалками мест в сенате Речи Посполитой (не перед канцлером и подканцлером ВКЛ, а после них) в ущерб их претензиям [23, с. 411]. Этим самым «свежеиспеченный коронный надворный маршалок», как язвительно подчеркнул литовский канцлер А.С. Радзи-вилл, разжег острую полемику, которая имела как персонифицированный, так и национальный аспекты [40, с. 339]. Потерпевшими от предложений Казанов-ского и вынужденными оборонять свои прерогативы литовскими урядниками были великий маршалок Александр Людвик Радзивилл и подканцлер княжества Марциан Тризна [41, с. 74, 148], которые, по сути, являлись репрезентантами крупнейших политических группировок ВКЛ – несвижской радзивилловской и сапеговской [12, с. 192–194, 197–199]. Инициируя данную ситуацию, Казанов-ский не мог не понимать, что этим самым он пробовал урезать полномочия не просто отдельных должностных лиц, а всего ВКЛ, однако это его не остановило. Поскольку предложения Казановского шли вразрез с интересами правящей элиты княжества, они были отброшены [40, с. 339], но одновременно был найден иной механизм укрепления позиций фаворита. Дело в том, что манипуляции Ка-зановского являлись логичным развитием интеграционной логики, инструмен- том которой в рамках Речи Посполитой традиционно была монархия. По-видимому, не является совпадением то, что день в день с выступлением Казанов-ского на сейме был издан королевский рескрипт, унифицирующий компетенции коронных и литовских маршалков. Подписанный 12.02.1643 г. Владиславом Вазой документ выстраивал строгую иерархию общего уряда, где верховенство принадлежало великому коронному мар-шалку, независимо от того, где находился монарх, в Польше или ВКЛ. Единственной уступкой великому литовскому маршалку был маловероятный случай проведения сеймов на территории ВКЛ.
Эта же схема касалась надворных маршалков, что фактически давало Ка-зановскому право верховодить при дворе и на территории ВКЛ [40, с. 339–340; 41, с. 398]. Помимо этого, рескрипт фактически санкционировал объединение судебных компетенций так называемых маршалковких судов (коронного и литовского), в соответствии с чем любой из маршалков мог принимать и завершать дела, невзирая на гражданскую принадлежность сторон. Принципиальным практическим моментом последнего пункта было то, что преимущества получали именно коронные урядники, так как монарх больше времени проводил в Польше, а литовские маршалки были редкими гостями при дворе монарха [41, с. 354]. Таким образом, судебная компетенция Казановского фактически без формальных ограничений могла распространяться на жителей ВКЛ.
То, что введенная в 1643 г. иерархия урядов действительно экстраполировалась на ВКЛ, достаточно ясно видно из подтвержденного Владиславом 31.07.1645 г. декрета коронного и литовского мар-шалков о порядке пребывания королевской «гвардии и пехоты» в Вильно, где постановление великого коронного мар-шалка Л. Опалинского, а не литовского А.Л. Радзивилла, являлось исходным нормативным актом [42, л. 1–4об.].
Однако победа поляков, в том числе Казановского, была только временной. Уже 21 мая 1647 г. Владислав был вынужден вернуться к прежнему порядку, в соответствии с которым первенство опять было возвращено маршалкам той части польско-литовской федерации, в чьих границах пребывал в данный момент монарх [41, с. 398]. Это решение стало определяющим на будущее и было апробировано отдельным постановлением сейма, которое обязывало снять копии для отдельного хранения в польском и литовском госархивах [43, с. 69]. О том, что данное предписание было выполнено, свидетельствует сохранившаяся в Литовской метрике копия [44, л. 953об.– 955]. Фактически это означало для Каза-новского урезание его полномочий на территории ВКЛ, где он был вынужден передавать свои обязанности надворному литовскому маршалку.
Заключение . Путь польского рода Казановских к богатству и влиянию был во многом привязан к их экспансии на восточные земли Речи Посполитой, но до 1633 г. это касалось главным образом Польского королевства. Активное проникновение Казановских в ВКЛ началось с приходом власти Владислава Вазы, который превратил своего фаворита Адама Казановского в держателя староства и комплекса ленных владений, размещенных в Смоленском воеводстве. По сути, это стало залогом завершения брачного договора, по которому А. Казановский становился владельцем имения в княжестве и получал супругу из местного аристократического семейства. Такие метаморфозы позволили А. Казановскому расширить географию влияния за счет представителей элиты ВКЛ. Именно такие горизонтальные связи цементировали правящий класс Речи Посполитой, эталоном и костяком которого являлась польская шляхта.
Практически каждый элемент административной активности королевского фаворита в ВКЛ обусловливался прагматичными мотивами, среди которых главным являлась прямая материальная выгода. Это в первую очередь касается управления Борисовским староством. Даже в той уступке, которая была сделана в пользу распространения католичества, заметно стремление минимизировать затраты со стороны постоянно растущих запросов казны старосты. Доходы от многочисленных «подарков» монарха на территории ВКЛ не только Казанов-ский обращал на свои собственные нужды и подобающий магнату стиль жизни, за что, в свою очередь, приходилось расплачиваться как показной демонстрацией преданности лично Владиславу, так и прямой пропагандой монархии. Так, выстроенный магнатом дворец в Варшаве был увешан портретами его благодетеля. Это сооружение являло собой, скорее, не витрину личного богатства, а тех возможностей, которые давала близость к власти и ее ресурсам [45, с. 185–186].
Известный историографический штамп относительно Казановского, который не выявлял «далеко идущих амбиций» [4, с. 290], не в полной мере соответствует действительности. Приятельские отношения с монархом были большим гарантом для влияния, чем высокое должностное положение, но Адам Каза-новский имел и то, и другое. На практике любое влияние имеет свои пределы, и даже фавориту приходилось действовать в определенных рамках, которые определялись как политической конструкцией польско-литовской федерации, так и отсутствием полного контроля за правом у монархов Речи Посполитой. Предпринятая в 1640-х годах попытка унификации маршалковского уряда была объективно выгодной и лично А. Казановско-му, и польской элите, которая не оставляла настойчивых попыток полностью интегрировать ВКЛ в состав Польского королевства.
centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku).
Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966–1967. T. 12. S. 259–260.
Список литературы Фаворитизм как инструмент интеграции: Адам Казановский в Великом княжестве Литовском в 1633-1648 гг.
- Галубовіч В. Тастамент гарадзенскага старосты Паўла Іванавіча Валовіча 1630 г. // Валовічыгерба “Багорыя”. Мінск: Беларуская навука, 2019. С. 127–140.
- Chłapowski K. Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996. 220 s.
- Przyboś A. Kazanowski Zygmunt z Kazanowa // Polski słownik biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966–1967. T. 12. С. 259–260.
- Czapliński W. Wladyslaw IV i jego czasy. Warszawa: PW “Wiedza powszechna”, 1972. 400 s.
- Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648. Warszawa: Semper, 2000. 224 s.
- Літвін Г. З народу руського. Шляхта Киïвщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648). Киев: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. 616 с.
- Кулаковський П. Чернігово-сіверщина у складі Речі Посполитоï 1618–1648. Киев: Темпора, 2006. 496 с.
- Nagielski M. Smoleńszczyzna w dobie zmagań polsko-moskiewskich w 1633–1634. Przyczynek do zmiany własności w świetle nadań Władysława IV // Między zachodemi wschodem. Etniczne i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Warszawa: MADO, 2005. С. 46–66.
- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 110.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 108.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 112.
- Lulewicz H. Elita polityczno-społeczna Wielkego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku: Praca doktorska napisana w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 1984. 488 s.
- Metryka litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego : województwo smoleńskie 1650 r. / pod redakcją Andrzeja Rachuby; oprac. Stanisław Dumin i Andrzej Rachuba. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009. 238 s.
- Wasilewski T., Zameła K. Radziejowska ze Słuszków Elżbieta // Polski słownik biograficzny. Wrocław, 1987. T. 30. S. 45–47.
- Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu. Warszawa: Semper, 2001. 383 s.
- Lulewicz H. Sapieha Lew // Polski słownik biograficzny. Warszawa-Kraków, 1994. T. 35. С. 84–104.
- Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов: в 39 т. Вильна, 1865–1915. Т. 33; Акты, относящиеся к истории западно-русской церк-ви. Вильна: Русский почин, 1908. 567 с.
- Lulewicz H. Sapieha Jan Stanisław // Polski słownik biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1992–1993. Т. 34. С. 624–629.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 117.
- Radziwiłł A.С. Pamiętniki o dziejach w Polsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. T. 1. С. 572.
- Насевіч В. Барысаўская воласць // Вялікае Княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. Мінск: БелЭн, 2005. Т. 1. С. 294–295.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 106.
- Voluminalegum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. Petersburg: Naklademidrukiem Jozafata Ohryzki, 1859. T. 3. 472 s.
- Wisner H. Władysław IV Waza. Wrocław; Warszawa; Krakow: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1995. 210 s.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 102.
- Przyboś A. Radzwiłł Albrycht Stanisław // Polski słownik biograficzny. Wrocław, 1987. Т. 33. S. 143–148.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 99.
- Kobierzyck С. Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedskiego. Wydali Janusz Byliński i Włodzimierz Kaczorowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 460 s.
- Чарняўскі М.Ф. Крыштоф Валадковіч: факты з жыцця і дзейнасці // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Мінск: БелНДІДАС, 2009. Вып. 7. С. 221–252.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 111.
- Kumor B. SielawaAnastazyAntoni// Polskisłownikbiograficzny. Warszawa; Kraków, 1995–1996. Т. 36. С. 585–588.
- Грынявецкі В. Барысаў // Вялікае Княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. Мінск: БелЭн, 2005. Т. 1. С. 294.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 113.
- Czapliński W., Przyboś A. Kazanowski Аdam z Kazanowa // Polski słownik biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966–1967. Т. 12. С. 250–253.
- Dzięgielewski J. Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV. Warszawa: Wydawnictwo sejmowe, 1992. 183 s.
- Sawicki M. Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648–1655. Opole, 2010. 380 s.
- Wisner H. Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkicezczasów Zygmunta IIIi Władysława IV Wazy. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2001. 144 s.
- Wisner H. Rzeczpospolita Wazów III. Sławne Państwo Wielkie Księstwo Litewskie. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Inatytut Historii PAN, 2008. 330 s.
- Wiśniewski K. Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII-XVIII wieku (1632–1676). Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 2015. 500 s.
- Radziwiłł A.С. Pamiętniki o dziejach w Polsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1980. T. 2. С. 555.
- Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku: Spisy / pod red. A. Gąsiarowskiego. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1994. T. 11. 255 s. (Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku).
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 121.
- Voluminalegum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. Petersburg, 1859. T. 4501 s.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 119.
- Lileyko J. Życie codzienne w Warszawie za Wazów. Warszawa: Państwowy instytut Wadawniczy, 1984. 392 s.