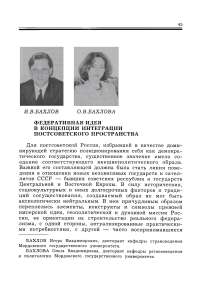Федеративная идея в концепции интеграции постсоветского пространства
Автор: Бахлов Игорь Владимирович, Бахлова Ольга Владимировна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Проблемы федерализма
Статья в выпуске: 1 (50), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется основное содержание российских концепций интеграции стран СНГ и роль России в этом процессе.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222906
IDR: 147222906
Текст научной статьи Федеративная идея в концепции интеграции постсоветского пространства
Для постсоветской России, избравшей в качестве доминирующей стратегию позиционирования себя как демократического государства, существенное значение имело создание соответствующего внешнеполитического образа. Важной его составляющей должна была стать линия поведения в отношении новых независимых государств и сателлитов СССР — бывших советских республик и государств Центральной и Восточной Европы. В силу исторических, социокультурных и иных долгосрочных факторов и традиций сосуществования, создаваемый образ не мог быть аксиологически нейтральным. В нем причудливым образом переплелись элементы, конструкты и символы прежней имперской идеи, геополитической и духовной миссии России, ее ориентации на строительство реального федерализма, с одной стороны, актуализированные практическими потребностями, с другой — часто воспринимавшиеся
БАХЛОВ Игорь Владимирович, докторант кафедры страноведения Мордовского государственного университета.
БАХЛОВА Ольга Владимировна, докторант кафедры регионоведения и политологии Мордовского государственного университета.
как анахронизм или необоснованные притязания в результате утраты Россией сверхдержавного статуса и появления серьезных сомнений в ее ведущей роли на пространстве бывшего Советского Союза. Эти обстоятельства существенно повлияли на разработку и эволюцию российской концепции интеграции/реинтеграции постсоветского пространства.
Характерные черты российской позиции базировались на исходных установках новой внешнеполитической доктрины, получившей условное название «доктрина Козырева», в основе которой находилась концепция «общих ценностей». Была провозглашена задача формирования «принципиально новой стратегии межгосударственных отношений», основанной «на принципах равноправия и взаимной выгоды». В российской концепции указывалось и на неприятие имперской политики или ее элементов («высокомерия» и пр.) новыми независимыми государствами, на их «аллергию» ко всему, что «напоминает прежнюю зависимость от союзных структур»1 Вместе с тем обнаружилась определенная противоречивость российского подхода к имперской политике.
Во-первых, категорическое, принципиальное неприятие «имперских» традиций СССР сочеталось с фиксацией континуитета России по отношению к Советскому Союзу — позиционированием (и соответствующим закреплением в официальных документах внутри- и внешнеполитического характера) себя как государства-продолжателя СССР, осуществляющего его «права и обязанности на мировой арене», перешедшие к России. Во-вторых, отказ от «имперского высокомерия и эгоцентризма» не означал отказа от попыток утвердить пространство бывшего СССР как сферу исключительных интересов России и обозначить ее роль как лидера СНГ. Рудименты эгоцентризма прослеживались, например, в «Основах Концепции внешней политики России» 1993 г., «Стратегическом курсе России с государствами — участниками СНГ» 1995 г. и особенно — в проекте доктрины политики России в отношении СНГ 1994 г. Справедливо замечание А.В.Кортунова, что сама российская политика претендовала одновременно и на отрицание советского опыта, и на его наследование2. В связи с этим заметим, что федеративная идея, безусловно, входила с ним в противоречие и не была органична прежней пространственно-символической композиции исторического пространства.
Сразу же после распада СССР появились оптимистичные взгляды на будущее постсоветского пространства в плане его реинтеграции. Так, по мнению А.Богатурова, М.Кожокина и К.Плешакова, с созданием СНГ Россия взяла на себя роль союзных структур: «посткоммунистические националисты» тем самым проголосовали против одномоментной отмены «союзного ига»3. Оптимизму в определенной степени способствовали положения учредительных документов СНГ, в которых провозглашалась приверженность сотрудничеству в формировании общего экономического пространства, сохранении объединенного командования военно-стратегическими силами и др. В то же время Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г. констатировала, что Содружество не является «ни государством, ни надгосударственным образованием»4. Отношения между государствами — участниками СНГ, как предусматривалось учредительными документами, носили международно-правовой характер; каждое государство полностью сохраняло свой суверенитет и международную правосубъектность.
В дальнейшем, по словам Ю.В.Шишкова, «изначальное стремление руководства большинства постсоветских государств сохранить позитивные элементы...- нашло свое воплощение в ряде многосторонних соглашений — преимущественно в экономической сфере (Договор об Экономическом Союзе 1993 г., Соглашение о платежном союзе 1994 г. и пр.)5 В основном на экономических аспектах интеграции акцентировалось внимание в проекте Евразийского Союза Н.А.Назарбаева (1994 г.). Исходя из поливариантности интеграции, разных темпов, неоднородности и разновекторности в развитии государств, настоятельной потребности в формировании нового экономического порядка в СНГ, предлагалось создание дополнительной интеграционной структуры — Евразийского Союза, сочетающегося с деятельностью Содружества и обладающего наднациональными политическими и экономическими органами6.
Естественно, экономическая интеграция была необходима с точки зрения обеспечения выживания новых независимых государств, одновременно она имела относительно нейтральный оттенок применительно к возможному российскому «неоимпериализму». Не случайно Н.А.Косолапов, ссылаясь на мнения американских представителей Госдепартамента и министерства обороны США, подчеркивает, что Соединенные Штаты могут еще примириться с экономической реинтеграцией постсоветского пространства (при условии ее добровольности и рыночной основы), но с военной и политической реинтеграцией Америка мириться не станет и будет этому противодействовать всеми доступными ей средствами7
Со временем появились и умеренно пессимистичные оценки СНГ, по которым Содружество представляется в лучшем случае нечто подобным Священной Римской империи не в самые блестящие ее годы, в худшем — неким «ностальгическим сообществом», вроде Британского Содружества наций. Стал осознаваться тот факт, что СНГ становится «фикцией»8 Неадаптированность большинства документов, принимаемых в СНГ, к реальной ситуации, отсутствие подлинного интеграционного взаимодействия позволяют согласиться с мнением Ю.В.Шишкова, относящего СНГ к квазиинтеграционным объединениям.
Для предотвращения и амортизации негативных последствий подобных ситуаций, формирования долгосрочных стратегических интересов государств и благоприятных перспектив совместного будущего большое значение имела разработка адаптированной к геополитической ситуации, экономическим возможностям и интересам России и стран СНГ концепции интеграции, позволяющей реконструировать пространство бывшего СССР Первоначально упор делался на «коллективную синхронную интеграцию». В данном случае интеграционная схема основывалась на модели СССР как наиболее знакомой и понятной лидерам новых независимых государств9. Вместе с тем эта модель в представлении бывших советских республик во многом носила негативный отпечаток, что, вкупе с негативным образом России как возможного «неоимпериалиста» и объективными факторами (различиями в уровне экономического и социального развития и т.п.), делало ее трудноосуществимой на практике. Иногда в любых идеях интеграции усматривалось потакание «реваншизму» России. Появились альтер- нативные проекты: некоторые из них приоритет отдавали учету национальных интересов стран СНГ и предполагали формирование на этой основе новой, «европеизированной доктрины» постсоветской интеграции, другие — апеллировали к историческому опыту совместного проживания, социокультурным связям, геополитической роли России. Интеграция постсоветского пространства понимается здесь более широко — как интеграция евразийского пространства. С этих позиций были разработаны новые модели интеграции: модель европейской или европеизированной интеграции — «горизонтальной» интеграции, представляющей либерально-демократическую форму интеграции; модель «ядра» или «центра», отражающаяся в концепциях «восточнославянского ядра» (Россия, Белоруссия, Украина) и «геополитического пространства притяжения», где в роли центра выступает Россия.
И в первом, и во втором случаях подчеркивается необходимость добровольности объединения, но в рамках второй модели отмечается возможность сохранения вертикальной составляющей и «подспудной тенденции к авторитаризму» со стороны России, объясняемой условиями объективной реальности: «в целом принуждать к интеграции... должна не Москва, а объективные обстоятельства и субъективное сознание их значения и последствий»10 В дальнейшем произошло соединение элементов обеих моделей, когда Россия и Казахстан, наиболее активно выступающие с идеей развития интеграции, в качестве образца переняли модель Европейского Союза с концепцией «разноскоростной и многоуровневой интеграции» и акцентом на экономическую основу, но с некоторой евразийской спецификой.
Оставляя в стороне экономические аспекты интеграции, рассмотрим ее политические составляющие, связанные с решением нескольких взаимосвязанных проблем, в первую очередь вопросы лидерства, формы и характера возможного объединения постсоветских государств. Имперский проект в силу объективной реальности и доминирования негативного образа России в новых независимых государствах не имел много сторонников. Однако официальный Кремль, несмотря на заявления об особых интересах и ведущей роли России на постсоветском пространстве, ни- когда не выносил его на обсуждение и не претендовал на роль имперского центра.
В политическом дискурсе России имперские проекты были достаточно маргинальными. Они выдвигались преимущественно радикально настроенными авторами; на них оказывали большое воздействие их политические ориентации. При этом в некоторых имперских и квазиимперских проектах, базирующихся на геополитических интерпретациях роли России, обнаружилось парадоксальное переплетение элементов нескольких форм территориальной организации постсоветского пространства.
«Новые евразийцы» (А.Дугин и др.), анализируя императивы «большого пространства», оформленного в гибкую политическую структуру «имперско-федерального типа», приходят к выводу о его исключительной целесообразности вообще и в постсоветский период в частности. Именно «большое пространство» должно компенсировать многообразие этнических и государственных волеизъявлений, служить своего рода беспристрастным арбитром и регулятором возможных локальных конфликтов. На этой основе предлагается проект Восточного Евразийского блока Федеральной империи, которая, скорее всего, захватит в свое «силовое излучение» дополнительные территории. Эта империя, по мнению А.Дугина, должна не только стратегически и пространственно превосходить предшествующий вариант (СССР), но и быть евразийской, великоконтинентальной, а в перспективе — мировой. Таким образом, Россия и русский народ адекватно распорядятся своей судьбой и «вырвут» у истории свое политическое самоутверждение: ведь Россия — это «Большое Пространство, и Великую Мысль носит народ ее в своей гигантской континентальной евразийской душе». Создание СНГ рассматривается как стадия нового процесса — евразийской интеграции, призванной переломить процесс стратегического распада евразийского пространства. Поворот к «новой интеграции» относится к началу «эпохи Путина»11.
С точки зрения либеральных демократов «добровольный отказ России от своей державной роли» после распада СССР означает не вхождение в мировое сообщество цивилизованных наций, а «скатывание до уровня
Доминиканской республики». Утрата Россией понимания своего геополитического предназначения (функций буфера, посредника и держателя равновесия между Востоком и Западом) приводит к «роковому нарушению баланса сил в Евразии» и за ее пределами. Выходом в данном случае видится не воссоздание империи, а раздел сфер влияния по принципу «север — юг» с включением в сферу влияния России Афганистана, Ирана, Турции. Кроме того, представляется необходимым «объединение славянства». Как утверждает В.В.Жириновский, Россия должна вновь взять на себя роль защитницы и покровительницы славянства и попытаться в той или иной форме создать Славянский Союз, который «поможет всем нам сохранить независимость и культурную самобытность»12 Другой представитель ЛДПР — А.В.Митрофанов — утверждая, что никакого славянства нет, есть «три ветви русского народа: великороссы, белорусы и малороссы», пропагандирует доктрину «русского национального эгоизма». Говоря о бесполезности, недееспособности и, во многих отношениях, вредности СНГ для России, он призывает к переходу на систему двусторонних отношений с бывшими союзными республиками. В то же время он признает желательность немедленного создания российско-белорусского союза, в идеале — по германскому варианту: никаких конфедераций, белорусские области должны войти в состав России. При этом, правда, отрицается имперский путь: «это нельзя делать по образу империи»13
Идея восстановления Советского Союза уже к середине 1990-х гг. утратила свою актуальность: она время от времени поддерживалась отдельными представителями левого крыла КПРФ, Национально-республиканской партией и др. Преобладание получили различные варианты концепции «особой роли и ответственности России», имеющие отношение как к глобальным, так и региональным внешнеполитическим приоритетам (постсоветское пространство, Евразия).
Более реальными и соответствующими новой демократической внешней политике России выглядели концепции, предусматривавшие конфедеративную или федеративную основу реинтеграции. Их условно можно разделить на националистические, исходящие из этнического признака (федеративное объединение России, Белоруссии, Украины и Северного Казахстана), более умеренная версия — формирование славянского или восточно-славянского союза (Россия, Украина, Белоруссия, или Россия и Белоруссия), а также либерально-космополитические, базирующиеся на признании исторической и геополитической общности народов бывших советских республик (создание Евразийского Союза). Кстати, СНГ, инициированное Россией, Украиной и Белоруссией, на первом этапе своего существования рассматривалось иногда как «содружество славянских государств». Сами инициаторы заявляли об открытом характере Содружества, что фиксировалось и учредительными документами14. Идея создания «славянского» или «азиатского» союзов отвергалась С.М.Шахраем, т.к. «этнические» объединения изжили себя. По его убеждению, генеральная линия новой реинтеграции — «евроазиатская конфедерация»15.
В развитии политики России в рамках «славянского треугольника» А.Мошес выделяет три периода: 1) 1990— 1994 гг. — дезинтеграционная стадия, на которой господствовала динамика распада; 2) 1994—1999 гг. — переход от завышенных ожиданий к застою и одновременный рост реинтеграционной эйфории; укрепление донорской модели экономических связей с Украиной и, в меньшей степени, с Белоруссией; 3) с 1999 г. — умеренно-прагматическая стадия, характеризующаяся попыткой России вернуть инициативу, уменьшить субсидирование обеих славянских республик, сохраняя союзные отношения с Белоруссией и снижая уровень конфликтности с Украиной16
Отношения с Белоруссией и Украиной развивались по схожему «сценарию»: они имели скачкообразный, пульсирующий, конъюнктурный характер, обусловленный значительной ролью политических факторов — не только настроениями общества и элит Украины и Белоруссии, как считает А.Мошес, но и динамикой российских внутриполитических процессов; для всех сторон наиболее важными были электоральные циклы. Именно в период выборов в славянских государствах достигали кульминации заверения в дружбе и решимости к тесному сотрудничеству. Вместе с тем в российско-белорусском взаимодействии, в отличие от российско-украинского, можно выявить интеграционный аспект. Модель двусторонней интеграции складывалась на протяжении 1990-х гг. (Договор о Таможенном союзе 1995 г., Договор о создании Сообщества России и Белоруссии 1996 г., Договор о создании Союза Беларуси и России 1997 г.) и формально была закреплена с подписанием Договора о создании Союзного государства в 1999 г. Главной характеристикой процесса эволюции этой модели, на наш взгляд, является переход от конфедеративного характера Союза к особой форме устройства Союзного государства, сохраняющей черты конфедерации и имеющей некоторые признаки федерации. Еще до подписания Договора 1999 г. высказывалось предложение придать российско-белорусскому объединению федеративный характер17.
Главным вопросом наряду со сложностью реализации структурных характеристик Союзного государства, оформления его территориального устройства, субъектного состава, вероятно, остается проблема Центра: будет ли он двусубъектным, либо в роли Центра все же утвердится Россия, достаточно жестко демонстрирующая свои намерения в эпоху Путина.
Некоторое «подтягивание» Украины к интеграционному взаимодействию произошло только в начале XXI в., когда она на некоторое время получила символический пост председателя СНГ и подписала Соглашение о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). Но это уже не Славянский союз (в ЕЭП входит и Казахстан) и не политическое, федеративное, а экономическое образование.
К настоящему времени сложилась вполне сформировавшаяся концепция интеграции постсоветского пространства, разделяемая и Россией. В ее основу был положен синтез элементов нескольких, ранее предлагавшихся проектов, в том числе Евразийского Союза. Созданные или трансформированные из прежних объединения имеют либо наднациональные признаки (Союз России и Белоруссии, Евразийское экономическое сообщество — ЕврАзЭС), либо — экономическую ориентацию (ЕЭП, ЕврАзЭС) и в большинстве своем — евразийский характер. «Европеизированная» доктрина интеграции была существенно пересмотрена.
Акцент на экономической основе в рамках так называемого свежего подхода в противовес приоритетности политических факторов начала 1990-х гг., на равной заинтересованности государств-участников, переход к многоформатности интеграционного взаимодействия и разным скоростям подключения к интеграционным процессам («елочный механизм») в то же время не означают абсолютно горизонтального характера интеграции. Например, в ЕврАзЭС принята система «взвешенного голосования», когда количество голосов в постоянно действующем органе (Интеграционном Комитете) распределяется в зависимости от вклада в бюджет организации, т.е. от экономического веса государства-участника.
Достаточно целесообразной в сложившейся ситуации представляется концепция «державы — необходимости» Я.Шимова. Он предполагает, что «постимперское государство», каковым является Россия, должно проводить маневренную, прагматичную внешнюю политику, ориентируясь на свое геостратегическое положение и сохраняя равноудаленность от основных полюсов внешнеполитического притяжения18
Для демократической, федеративной России, апеллирующей к принципам международного права, разумеется, лучшей альтернативой будет не воссоздание империи, а сохранение геополитического контроля в Евразии и сферы влияния на постсоветском пространстве, где она должна подтвердить свою историческую роль Центра и статус интеграционного ядра. В целом российская концепция интеграции становится более диверсифицированной. «Свежий» экономический подход уравновешивается вниманием к политическим и военно-политическим аспектам интеграционных процессов на субрегиональном уровне и в рамках Содружества: возвращение поста председателя в СНГ, разработка проекта реформирования исполкома и создания Совета безопасности осуществляются параллельно с ратификацией Соглашения о ЕЭП, присоединением к Центрально-азиатскому экономическому сообществу (ЦАЭС) и пр. Думается, что диверсификация российских усилий объясняется главным образом прагматичной интерпретацией геополитического плюрализма в Евразии и прежнего опыта квазиинтеграционного взаимодействия. Вместе с тем развенчивание многих «фантомных державных комплексов» не означает автоматического усиления федеративной идеи. Ее реализация затруднена рядом обстоятельств политического, правового и иного характера, не в последнюю очередь — позицией соответствующих политических акторов. Виртуально она присутствует в российско-белорусских отношениях, и в обозримом будущем возможно воплощение некоторых ее элементов только на этом направлении. Но теоретически и практически, и к этому подталкивают объективные факторы, Россия будет вынуждена на постсоветском пространстве (как в плоскости интеграционных процессов, так и межгосударственных взаимоотношений) руководствоваться принципом «множество в единстве», характерным для федерализма.
Список литературы Федеративная идея в концепции интеграции постсоветского пространства
- Основные положения Концепции внешней политики Российской Федерации 1993 г.//Внешняя политика и безопасность современной России: Хрест. Т. 4. М., 2002. С. 20, 35.
- Коршунов А.В. Дезинтеграция Советского Союза и политика США. М., 1993. С. 37.
- Богатуров А., Кожокин М., Плешаков К. После империи: демократизм и державность во внешней политике России. М., 1992. С. 7 -8.
- Алма-Атинская декларация глав независимых государств//Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия? М., 1992. С. 500.
- Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. М., 2001. С. 392.