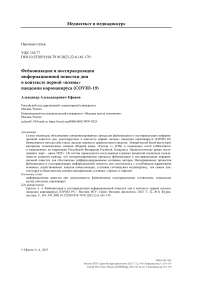Фейковизация и постправдизация информационной повестки дня в контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19)
Автор: Ефанов А.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Медиатекст и медиадискурс
Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обоснованию синхронизированных процессов фейковизации и постправдизации информационной повестки дня, диспозируемых в контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19). Применяются методы кейсстади, дискурс-анализа и сравнительного анализа. Эмпирической базой выступают материалы телевизионных каналов (Первый канал, «Россия 1», НТВ) и социальных сетей («ВКонтакте» и запрещенных на территории Российской Федерации Facebook, Instagram). Хронологические рамки исследования: март - июнь 2020 г. По итогам проведенного исследования в рамках авторской концепции псевдоновости делаются выводы, что синхронизированные процессы фейковизации и постправдизации информационной повестки дня обусловлены дифференцированными мотивами акторов. Инспирирование процессов фейковизации и постправдизации информационной повестки дня соотносилось с устойчивыми нарративами основных задействованных каналов коммуникации, усиливая устоявшуюся медиакартину, тем самым конституируя в общественном мнении квалификацию условных «героев» и «врагов».
Информационная повестка дня, псевдоновости, фейковизация, постправдизация, телевидение, социальные медиа, пандемия, коронавирус
Короткий адрес: https://sciup.org/147241578
IDR: 147241578 | УДК: 316.77 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-6-161-170
Текст научной статьи Фейковизация и постправдизация информационной повестки дня в контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19)
Начавшаяся в 2020 г. пандемия коронавируса (COVID-19), в особенности ее первая «волна», протекавшая в России с марта по июнь, обусловившая локдаун и, как следствие, переопределение социальных практик индивидов, в том числе медиапрактик, привела к доминированию в информационной повестке дня основной мегатемы и конструируемой в ее диспозиции совокупности тем – борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, разработки вакцин, поддержки граждан в условиях ограничительных мер и т. д. В контексте динамичного новостного потока в информационной повестке дня наряду с собственно новостными сообщениями, хроникально отражающими социальную действительность, соответствующими принципам объективности и достоверности, стали появляться симулирующие конструкты – псевдоновости, по форме идентичные новостям как таковым, но содержательно им радикально не соответствующие.
Согласно авторскому определению, псевдоновость представляет собой «дискретно существующую разновидность новости. Будучи формально (по структуре) построенным как новостное послание (аналогичные композиция, стилистика, основные элементы, диалектический ответ на триаду вопросов: что? + где? + когда?), псевдоновостное сообщение содержательно противоречит главным признакам новости (объективности, достоверности, отражению текущей действительности)» [Ефанов, 2018, с. 164]. При этом в рамках выдви- гаемой оригинальной концепции выделяются два типа псевдоновости: фейк и постправда 1, – которые, в свою очередь, также следует дифференцировать: «Если фейк является следствием непреднамеренности действий медиаконтролеров (погоня за сенсацией, низкий уровень профессионализма, проявляющийся в отсутствии навыков верификации фактологических данных), то постправда представляет собой результат спланированности техник, конечной целью которых становится осознанная дезинформация аудитории» [Ефанов, 2018, с. 164]. Следует заметить, что в контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19) наблюдалось во многом синхронизированное конструирование обоих типов псевдоновости, обусловливающее соответствующие процессы – фейковизации и постправдизации.
Таким образом, 2020 год со стороны представителей как академического, так и индустриального сообщества был объявлен своего рода «годом фейков» [Зуйкина, Соколова, 2019]. По данным опроса, проведенного аналитиками Ассоциации развития интерактивной рекламы России ( IAB Russia), в 2020 г. около 55 % респондентов «встречали ложную информацию более пяти раз. Чаще всего ее находили на форумах, в блогах и социальных сетях – 47 %» 2. Как следствие, в 2020 г. был принят так называемый «Закон о фейках в период пандемии коронавируса (COVID-19)», предусматривающий внесение изменений в «Кодекс об административных правонарушениях РФ» и «Уголовный кодекс РФ», за умышленное распространение 3 псевдоновостных сообщений предполагающий не только наложение штрафов до 5 млн рублей (за повторное нарушение – до 10 млн рублей), но и лишение свободы. Кроме того, команда корпорации Meta Platforms* 4 объявила борьбу c распространением псевдоно-востных сообщений в пространстве принадлежащих ей социальных сетей Instagram* и, прежде всего, Facebook* посредством использования потенциала нейросетей.
Методология исследования
Целью настоящего исследования является обоснование синхронизированных процессов фейковизации и постправдизации информационной повестки дня, диспозируемых в контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19). Используется комплекс методов: кейс-стади, дискурс-анализ и сравнительный анализ. Эмпирическую базу составляют материалы телевизионных каналов (Первый канал, «Россия 1», НТВ) и социальных сетей («ВКонтакте», Facebook*, Instagram*). Подобная исследовательская логика продиктована выбором наиболее рейтинговых телеканалов, входящих в так называемую «большую тройку», на каждом из которых имеется собственная информационная служба с новостной программой, а также обращением к популярным в России социальным сетям, соответственно ориентирующимся на целевую аудиторию различных социальных групп и статусов, где пользователи как делают репосты новостного контента, так и пишут собственные посты с отражением событий информационной повестки дня (при этом отличительной особенно- стью является высокая интерактивность – возможность комментировать и / или реагировать при помощи «лайков»). Выгрузка данных осуществлялась посредством системы «Медиалогия». Хронологические рамки исследования: март – июнь 2020 г. Теоретико-методологической основой исследования выступают теория установления информационной повестки дня (М. Маккомбс, Д. Шоу, Г. Цукер), позволившая концептуализировать объект исследования, авторская концепция псевдоновости с разграничением явлений фейка и постправды (И. Н. Блохин, С. Н. Ильченко, О. С. Иссерс, Д. Левитин, Г. Г. Почепцов, С. Фуллер, С. В. Чугров), предопределившая предмет настоящего исследования, а также методический подход дискурсивных измерений [Ибарра, Китсьюз, 2007] и концепция медиапрайминга [Iyengar et al., 1982], обусловившие выделение основных риторических идиом медиатекстов.
Установление информационной повестки дня (agenda-setting): концептуализация феномена
Теория установления информационной повестки дня (agenda-setting) была разработана М. Маккомбсом и Д. Шоу в 1972 г. Изучая репрезентируемые со стороны медиа (прежде всего, телевидения) темы в рамках предвыборной кампании в США 1968 г., авторы замечают, что публитизируется (и одновременно проблематизируется) ограниченное число социальных прецедентов. Исключительно медиа могут наделить социальные прецеденты статусом события в результате усиленной репрезентации. Кроме того, впервые была установлена тенденция иерархии событий – уделение одним темам большего внимания (за счет анонсирования, вынесения в начало выпусков, выделения большего хронометража) на фоне других. Ученые во многом переосмысливают обозначенный ранее Б. Коэном тезис относительно послевоенной прессы: «Средства массовой информации не могут указывать людям, что им следует думать, но они обладают мощным потенциалом для наведения на мысль, о чем думать» [Cohen, 1963, р. 152].
В рамках впервые предлагаемого гибридного подхода (предполагающего процедуру триангуляции – соотнесения результатов контент-анализа материалов медиа, исследования общественного мнения (реакций индивидов) посредством социологических опросов и статистических данных относительно конкретных проблем) М. Маккомбс и Д. Шоу приходят к выводу: «Когда медиа обращаются к тем или иным событиям и проблемам, они начинают восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и заслуживающих внимания: в сознании ее членов происходит “воспламенение” ( priming ) соответствующей проблемной зоны за счет остальных зон» [McCombs, Shaw, 1972, р. 179].
В этой связи авторы обозначают основные факторы медиавоздействия при установлении информационной повестки дня, к числу которых относят:
-
1) освещение проблемы в контексте социокультурных стереотипов общества и отдельного индивида;
-
2) тенденциозность – конструирование проблемы, ее выстраивание во времени и постепенное, «многосерийное» развитие;
-
3) тематизация новостей, их ранжирование – представление в определенном порядке;
-
4) использование каналов коммуникации различной природы.
Таким образом, происходит установление пунктов повестки дня – конструирование медиасобытий, а также отбор и ранжирование тех из них, которые оказываются, с одной стороны, релевантны ожиданиям и запросам аудитории, с другой – не противоречат информационной политике и позиции учредителей конкретного издания (нередко учитываются также интересы долгосрочных коммерческих партнеров). Достижением теории установления информационной повестки дня М. Маккомбса и Д. Шоу можно считать репрезентативный вывод, что медиа не отражают социальную действительность, а симулируют ее, создавая виртуальный конструкт, органично инкорпорируемый в пространство социальной повседневности.
Развивая данную теорию, Г. Цукер впоследствии указывает на проблематизацию как доминирующий фактор эффективности установления информационной повестки дня, выделяя два вида проблем:
-
1) «навязчивые» (с «низким порогом») – апеллируют к интересам большинства, относительно которых индивиды имеют личный опыт;
-
2) «ненавячивые» (с «высоким порогом») – дистанцированные от аудитории, без наличия у субъектов социального иммунитета к ним [Zucker, 1978].
Как следствие, на данном фоне возникает некий дуализм: заложенного медиаконтролерами эффекта могут добиться как «ненавязчивые проблемы», с которыми индивид в своей обыденной жизни редко сталкивается и потому мало о них осведомлен, так и «навязчивые», поскольку подобные социальные прецеденты волнуют большинство. В этой связи определяющей становится драматургия события – его сюжетизация, основанная на апеллировании к триггерным элементам (потребности, ценности), нарративизации, подкреплении неизвестными для широкой аудитории деталями, вызываюшая устойчивый интерес.
В свою очередь, первая «волна» пандемии коронавируса (COVID-19) являла собой синтетический конструкт – проблематизацию одновременно с «высоким и низким порогом», – поскольку, с одной стороны, данный социальный прецедент затрагивал интересы большинства, с другой – индивиды не имели какого-либо личного опыта относительно действий в подобных ситуациях, в результате чего наблюдалась их дезориентация, создающая основу для манипулирования, в том числе посредством производства псевдоновостного контента в виде фейков и постправды.
Конструирование фейков и постправды в контексте первой «волны» пандемии коронавируса
С позиций коммуникативного подхода основа для создания фейковых сообщений во многом заложена в слухах как социокультурном явлении. Р. Росноу интерпретирует слухи в качестве «разновидности фейковой информации, открыто курсирующей в обществе в условиях недостатка информации о какой-либо проблеме и не имеющей официального подтверждения» [Rosnow, 1988, р. 17]. Важно заметить, что на этапе своего возникновения слухи генетически являлись продуктом межличностной и групповой коммуникации, впоследствии имея потенциал к распространению в массовой коммуникации, в том числе к упрочению в информационной повестке дня. При этом подобный потенциал преимущественно характеризовался неустойчивым состоянием, поскольку дефицит фактов относительно определенного социального прецедента, обусловливающий их подмену фактоидами, в результате своей модальности приводящий к возникновению фейков, ограничивался «привратниками», которые отвечали за установление информационной повестки дня. Подобные действия медиаконтролеров были связаны, с одной стороны, с профессиональным проведением процедуры фактчекинга – фильтрацией информационного потока от псевдоновостных сообщений фейковой природы, с другой – попыткой сократить конкуренцию с другими событиями, которые в силу тех или иных причин потенциально должны быть инкорпорированы в информационную повестку дня, заняв там устойчивое положение. Как следствие, фейковые сообщения незамедлительно маркируются медиаконтролерами как дезинформирующие и оперативно репрезентируются аудитории в качестве таковых. В данном контексте можно вспомнить один из главных постулатов теории М. Маккомбса и Д. Шоу, связанный с тем, что в результате медиатизированного – «опосредованного» ( mediated ) – контакта с социальной действительностью реальности как таковой не существует – индивид имеет дело с медиареальностью (даже при соблюдении канонических журналистских принципов сбора, обработки и распространения информации).
При этом следует обратить внимание на то, что обозначенное положение было характерно преимущественно в так называемую «доинтернетную» эпоху, когда медиаконтролерам (это отражено в том числе на уровне нейминга – с подчеркиванием основополагающей роли данных акторов) удавалось выступать привратниками при установлении пунктов информационной повестки дня, тем самым во многом сохраняя свое монопольное влияние.
Принципиально иная картина наблюдается в условиях усиления влияния социальных медиа на социальную повседневность, когда в результате доступности медиаресурсов с позиций просьюмеризма ( production + consumer ) [Тоффлер, 2009] субъекты стали сочетать в себе роли производителей и потребителей медиаконтента. Таким образом, в современной медиакоммуникационной парадигме, для которой стала характерной интеграция различных уровней коммуникации (межличностной, групповой, массовой и даже аутокоммуникации), инкорпорирование фейков в информационную повестку дня происходит беспрепятственно, а в поле Интернета (прежде всего в диспозиции социальных медиа) может воссоздаваться альтернативная информационная повестка дня [Ефанов, 2021], во многом конкурирующая за влияние на аудиторию. Однако, согласно авторской концепции псевдоновости, конструирование фейков со стороны рядовых пользователей Интернета преимущественно объясняется отсутствием «злого умысла» – непреднамеренностью действий, связанной с нехваткой специальной подготовки, проявляющейся на навыках сбора, обработки и распространения информации, а также на формировании профессиональной ответственности (поскольку роли журналиста и блогера в этом отношении зачастую оказываются идентичными) и критического отношения к потребляемому и производимому медиаконтенту.
В рамках проведенного исследования на эмпирическом уровне было подтверждено, что в контексте первой «волны» пандемии коронавируса в социальных медиа происходило активное распространение фейков, связанное с дефицитом фактов (их подменой фактоида-ми). На основании результатов дискурс-анализа сообщений в социальных сетях можно выделить несколько основных проблематизируемых тем:
-
1) коронавирус – результат испытаний со стороны США биологического оружия;
-
2) коронавирус – продукт сговора лидеров ведущих мировых держав и олигархии;
-
3) коронавирус – следствие подмены понятий: «Не COVID-19, а сезонная вспышка ОРВИ».
Тема «Коронавирус – результат испытаний со стороны США биологического оружия» была связана с риторикой поиска врага и риторикой опасности и одновременно фигурировала в постах как в социальной сети Facebook* ( Коронавирус – американское биологическое оружие массового уничтожения ; Что-то пошло не так? Или в этом и состоял коварный план США? ), так и «ВКонтакте» ( Китайский вирус с американскими корнями ). С позиций медиапрайминга данная тема вписывалась в устойчивый нарратив, связанный с геополитическим противостоянием – с подчеркиванием роли США как агрессора и системным конструированием образа врага: США по-прежднему хотят поработить мир («ВКонтакте»); США объявили биологическую войну (Facebook*).
Тема «Коронавирус – продукт сговора лидеров ведущих мировых держав и олигархии» апеллировала к риторике поиска врага и была отражена в Facebook*: Весь западный мир захотел расширить влияние на весь мир ; Западная политическая и бизнес-элита решила заработать на коронавирусе ; Запрещенные приемы «цивилизованного мира» . Несмотря на то, что вторая тема по модальности (в результате общего нарратива) близка к первой, ее отличие заключается в акценте на выгодоприобретателей в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Доминирование данной темы в Facebook* можно объяснить с точки зрения портрета целевой аудитории социальной сети, потребитель которой наиболее активно проявляет свою политическую позицию, в том числе демонстрируя реакции на соответствующий контент. В целом продвижение тем конспирологического характера в социальных медиа во многом продиктовано тем, что «теории заговора в их классическом виде сегодня широко используются в информационных войнах как эффективный политический инструмент» [Хохлов, 2020, с. 101].
Тема «Коронавирус – следствие подмены понятий: «Не COVID-19, а сезонная вспышка ОРВИ» основывалась на риторике неразумности и была распространена в социальной сети «ВКонтакте»: Сезонная простуда опаснее коронавируса ; «Корона» ОРВИ ; Новое название старой болезни? Акцент в рамках данной темы авторами делался на отвлечении внимания со стороны официальных медиа от иных реальных социальных проблем в сторону неизвестной инфекции, существование которой подвергалось сомнению. Данную тему можно также считать основной риторикой ковид-диссидентов, впоследствии (в рамках второй «волны») усиленной со стороны противников вакцинации против коронавируса – так называемых антиваксеров, которых следует рассматривать в качестве особой подгруппы ковид-дисси-дентов. Фигурирование указанной темы во «ВКонтакте» правомочно объяснить наибольшей популярностью данной социальной сети в России, аудитория которой имеет значительную кластеризацию (представленность различных социальных групп и общностей – создание в ней собственных виртуализированных комьюнити), тем самым потенциально рассчитывая на лояльность дифференцированных потребителей.
Однако необходимо обратить внимание на то, что выявленные темы, обусловленные конструированием фейковых новостей в социальных медиа, не были отражены в Instagram*. Подобную закономерность можно объяснить с точки зрения несоответствия продвигаемой в данных материалах риторики запросам целевой аудитории социальной сети. Мегатема коронавируса (и формируемые в ее диспозиции темы) была представлена в Instagram* в основном мерами профилактики распространения инфекции, проведением флешмоба «Оставайтесь дома» и в целом репрезентацией со стороны публичных персон и рядовых пользователей реконструкции социальной повседневности в новых пандемических реалиях.
В свою очередь, конструирование явления постправды в контексте первой «волны» пандемии коронавируса преимущественно было связано с «традиционными» СМИ, прежде всего с телевидением. С позиций авторской концепции псевдоновости подобная корреляция объясняется спланированностью действий медиаконтролеров, направленных на сознательную дезинформацию аудитории. В эфире федеральных телеканалов так называемой «большой тройки» (Первый канал, «Россия 1», НТВ) по принципу медиасолидаризации использовались риторика неразумности и риторика обесценивания.
Прежде всего, медиаконтролеры апеллировали к рассогласованности и непоследовательности действий политических акторов в странах Запада и Европы относительно борьбы с новой коронавирусной инфекцией:
-
1) введение ограничительных мер ( несмотря на то, что в стране [США] действует локдаун, его введение кажется весьма запоздалым («Россия 1»); введеные меры не показали свою эффективность - сделаны они были поздно и, вероятно, для «галочки» (НТВ); протесты граждан в американских штатах показывают промахи не только во внешней, но и во внутренней политике (Первый канал));
-
2) лечение заболевших ( лечение больных коронавирусом пока не дает результатов. Здесь [В Италии] число умерших настолько велико, что местные ритуальные службы не справляются с объемом. Десятки гробов приходится выставлять прямо в храмах (НТВ); западный мир оказался бессилен перед новой инфекцией. Медицинским службам крайне сложно справиться с потоком заболевших. Понятно, что о разработке эффективной вакцины в таких условиях пока не может идти речи... («Россия 1»));
-
3) помощь жителям ( европейские страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны (Первый канал); но европейская экономика буквально «трещит по швам»: власти обещают помощь и даже что-то делают, но только гарантий этой помощи в случае, если пандемия затянется, нет… (НТВ); когда власти европейских стран не всегда успевают с помощью, основной удар на себя уже взяли волонтеры, которые открыли гуманитарные штабы («Россия 1»)).
С точки зрения медиапрайминга представленные риторические идиомы на основе контрриторики противопоставлялись репрезентации телевизионными каналами действий по борь- бе с новой коронавирусной инфекцией в России (с акцентом на своевременность, согласованность, эффективность), прямо коррелируя с устойчивым нарративом на фоне продолжающегося противостояния мировых сверхдержав, модально соответствуя конституированной медиакартине.
Заключение
В контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19) наблюдались синхронизированные процессы фейковизации и постправдизации информационной повестки дня, обусловленные дифференцированными мотивами акторов. Проведенное исследование подтверждает правомочность ранее выдвинутой авторской концепции псевдоновости, объясняя, что если фейк выступает в качестве продукта массового сознания (вследствие дефицита фактов, их подмены фактоидами в результате непрофессионализма авторов – рядовых пользователей социальных сетей – на уровне реализации технологии фактчекинга), то постправда – спланированностью осознанных тактик медиаконтролеров. В целом инспирирование подобных процессов соотносилось с устойчивыми нарративами основных каналов коммуникации (Интернета и телевидения), в диспозиции которых соответственно происходило конструирование явлений фейка и постправды. Синхронизация процессов фейковиза-ции и постправдизации информационной повестки дня в контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19) объясняется с точки зрения проблематизации одновременно с «высоким и низким порогом», поскольку, с одной стороны, данный социальный прецедент затрагивал интересы большинства, с другой – индивиды не имели какого-либо личного опыта относительно действий в подобных ситуациях, в результате чего наблюдалась их дезориентация, создающая основу для манипулирования, в том числе посредством производства псевдоновостного контента в виде фейков и постправды.
Как следствие, можно предположить, что продвигаемые дискурсивные стратегии (на основе используемых риторических идиом) при фейковизации и постправдизации информационной повестки дня продолжат усиливать устоявшуюся медиакартину, конституируя в общественном мнении понимание условных «героев» и «врагов». При этом важно обратить внимание, что если относительно возникновения фейков в информационной повестке дня в правовом поле были разработаны и приняты соответствующие нормативные решения (появление так называемых «Закона о блогерах» 2014 г., «Закона о фейковых новостях» (несмотря на ряд методических упущений, связанных с квалификацией данного концепта [Ефа-нов, 2020]), «Закона об оскорблении власти» 2019 г., «Закона о фейках в период пандемии коронавируса (COVID-19)» 2020 г., а также введение контроля со стороны корпорации Meta Platforms* за публикацией подобных сообщений в социальных сетях Facebook* и Instagram*), то постправда остается во многом нерегулируемым явлением, в результате чего продолжающим создавать коллизии медиаэтического характера.
Список литературы Фейковизация и постправдизация информационной повестки дня в контексте первой «волны» пандемии коронавируса (COVID-19)
- Ефанов А. А. Функционирование псевдоновости в полях телевидения и Интернета: типология, практики, социальные эффекты // Коммуникология. 2018. Т. 6, № 1. С. 156-165.
- Ефанов А. А. «Закон о фейковых новостях» с позиций методологической корректности // Информационное общество. 2020. № 1. С. 49-56.
- Ефанов А. А. Деконструкция образа инфлюенсера в современном медиапространстве // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 5 (165). С. 32-46.
- Зуйкина К. Л., Соколова Д. В. Специфика контента российских фейковых новостей в Интернете и на телевидении // Вестник Моск. ун-та. Серия 10: Журналистика. 2019. № 4. С. 3-22.
- Ибарра П., Китсьюз Дж. Дискурс выдвижения утверждений-требований и просторечные ресурсы // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2007. С. 55-114.
- Ильченко С. Н. Фейк в практике электронных СМИ: критерии достоверности // Медиаскоп. 2016. № 4. С. 24-28.
- Иссерс О. С. Медиафейки: между правдой и вымыслом // Коммуникативные исследования. 2014. № 2. С. 112-123.
- Левитин Д. Путеводитель по лжи: Критическое мышление в эпоху постправды / Пер. О. Терентьевой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 272 с.
- Тоффлер Э. Третья волна / Пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др. М.: АСТ, 2009. 795 с.
- Фуллер С. Постправда: Знание как борьба за власть / Пер. с англ. Д. Кралечкина; под ред. А. Смирнова. М.: ИД ВШЭ, 2021. 368 с.
- Хохлов А. А. Конспирологические теории как феномен медиавоздействия на общественное сознание // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2020. № 1. С.96-104.
- Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 42-59.
- Blokhin I. N., Ilchenko S. N. Fake as a Format of Modern Journalism: the Information Reliability Problem. Indian Journal of Science and Technology, 2015, vol. 8, p. 10.
- Cohen B. The Press and Foreign Policy. Princeton, NJ, Princeton Uni. Press, 1963, 288 p.
- Iyengar S., Peters M. D., Kinder D. R. Experimental Demonstrations of the "Not-so-minimal" Consequences of Television News Programs. American Political Science Review, 1982, no. 76, pp. 848-858.
- McCombs M. E., Shaw D. L. The Agenda-setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 1972, vol. 36, pp. 176-187.
- Pocheptsov G. The Origins of Fake and Alternative Facts Can Help us Understand the Concept of Post-Truth. Russian Journal of Communication, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 210-212.
- Rosnow R. Rumor as Communication: a Contextualist Approach. Journal of Communication, 1988, vol. 38, no. 1, pp. 12-28.
- Zucker H. G. The Variable Nature of News Media Influence. Annals of the International Communication Association, 1978, vol. 2, pp. 225-240.