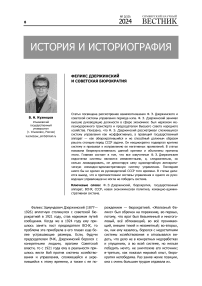Феликс Дзержинский и советская бюрократия
Автор: Кузнецов В.Н.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (50), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению взаимоотношения Ф. Э. Дзержинского и советской системы управления периода нэпа. Ф. Э. Дзержинский занимал высшие руководящие должности в сфере экономики: был наркомом железнодорожного транспорта и председателем Высшего совета народного хозяйства. Показано, что Ф. Э. Дзержинский рассматривал сложившуюся систему управления как неэффективную, а правящий государственный аппарат - как обюрократившийся и не способный должным образом решать стоящие перед СССР задачи. Он неоднократно подвергал критике систему и призывал к исправлению ее негативных проявлений. В статье показана безрезультативность данной критики и объяснены причины этого. Главная состоит в том, что все озвученные Ф. Э. Дзержинским недостатки системы являются имманентными, и, следовательно, их нельзя ликвидировать, не демонтируя саму однопартийную автократическую командно-административную систему управления. Последнее никто бы не сделал из руководителей СССР того времени. В статье делается вывод, что в противостоянии системы управления и одного из руководящих управленцев не могла не победить система.
Ф. э. дзержинский, бюрократия, государственный аппарат, вснх, ссср, новая экономическая политика, командно-административная система
Короткий адрес: https://sciup.org/14133123
IDR: 14133123
Текст научной статьи Феликс Дзержинский и советская бюрократия
Феликс Эдмундович Дзержинский (1877— 1926) вплотную столкнулся с советской бюрократией в 1921 году, став наркомом путей сообщения. Когда же в 1924 году ему пришлось занять пост председателя ВСНХ, то проблема эта приобрела в его глазах еще более устрашающие размеры. Если, будучи председателем ВЧК, Дзержинский боролся с конкретными людьми, врагами Советской власти, то с 1921 года ему в реальности пришлось вести бой против системы хозяйствования и управления, сложившейся и укрепившейся к этому времени, а также с ее по- рождением — бюрократией. «Железный Феликс» был обречен на поражение, во-первых, потому, что враг был безымянный и многоголовый, всё обтекающий, во всё проникающий, внешне тихий и незаметный; во-вторых, он, как ему казалось, боролся с недостатками системы хозяйствования и отказывался видеть, что дело не в конкретных недоработках и упущениях, а во всей системе, но нельзя победить нечто, не уничтожив его источник; в-третьих, как показал мировой опыт, бюрократия непобедима. Раз заняв некие позиции, она с очень большим трудом отдавала их.
Эту борьбу Дзержинского можно уподобить борьбе Гулливера с лилипутами: они маленькие, но их очень много. Политический вес Дзержинского и товарища Победоносико-ва (герой комедии В. В. Маяковского «Баня», в котором воплощен образ советского бюрократа периода нэпа) несопоставим, но победоносиковых много, они сплочены и упорны в достижении своих целей.
Если не брать с ab ovo, то корни советской бюрократии уходили в принципиальное видение В. И. Лениным нового общества. Председатель Совнаркома был чистой воды этатист, но этатистские подходы (всё через государство, всё во имя государства, государство священно) требовали огромного количества чиновников как проводников такой политики, как маленьких жрецов священной коровы под именем «Рабоче-крестьянское советское государство». Неудивительно, что с первых же месяцев существования советской власти произошел скачкообразный рост чиновников. Большевики уничтожили старый государственный аппарат, но служившие там быстро взяли внешне незаметный реванш в новой советской системе.
Верхушка РСДРП(б) — РКП(б) вершила свою политику, а обюрократившийся госаппарат распухал и распухал. Эти два процесса шли параллельно. Высшее политическое руководство Советского государства, занятое своими делами, не обращало внимания на то, что находится непосредственно рядом с ними, — на госаппарат. В работе «Лучше меньше, да лучше» больной Ленин признал: «Мы так мало успели до сих пор подумать и позаботиться о качестве нашего госаппарата». Здесь же он дает такую характеристику госаппарату (т. е. тому аппарату, который сложился именно при нем, и он не мог не нести за это ответственность): «Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны… Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность или даже свою бесполезность, или даже свою вредность. Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги» [2, с. 390, 392].
Сложившаяся бюрократическая система управления отличалась громоздкостью, мед- лительностью и малоэффективностью, что Дзержинского как наркома путей сообщения, а потом председателя ВСНХ совсем не устраивало. Он искренне болел за порученное дело, отдавался ему всей душой и не щадил себя для достижения наилучшего результата. В этой борьбе Ф. Э. Дзержинский был обречен, и если бы у него не случился инфаркт в 1926 году, то система все равно исторгла бы его из себя как человека, ей чуждого, как тот механизм, который мешает ей успешно функционировать.
Для иллюстрации попыток Ф. Э. Дзержинского повлиять на существующую систему управления будут использованы данные последнего года его жизни. «…То, что говорил Владимир Ильич о нашем аппарате, это до сих пор слово в слово остается правильным и верным. Стоит только посмотреть, какая у нас организация производства, какие у нас раздутые штаты, какой страшный и неслыханный бюрократизм не только в составлении планов, а на каждом шагу… Там, где может работать один человек, там есть зам., пом. зама и к нему секретарь и так без конца», — говорит он на пленуме ЦК ВКП(б) 7 апреля 1926 года [1, с. 262].
Через несколько дней, 13 апреля, Ф. Э. Дзержинский выступает на совещании Президиума ВСНХ СССР: «Аппарат некоторых трестов и органов дошел до громадных размеров и влечет за собой ряд других расходов, не говоря уже о бюрократизации системы управления, что удорожает все управление промышленностью… Высокая себестоимость означает, что около производства данного предмета живет и питается слишком большое количество народа, падающее бременем и тяжестью на все народное хозяйство» [1, с. 271].
Дзержинский Ф. Э. употребляет словосочетания «наш аппарат», «организация производства», «система управления», он отдает себе отчет, что порочны именно они, что проблема не в частностях, а в целом. Однако понимал ли он, что эта система и является одной из основ советской экономики, что она была порождена той «красногвардейской атакой на капитал», которая создала огромный национализированный сектор экономики, управляемый чиновниками?
16 апреля он делает доклад «Борьба за режим экономии и печать» на совещании ру- ководителей московской печати, где говорит: «Что означает эта дороговизна? Это значит, что мы растрачиваем труд для наших изделий в больших размерах, чем это нужно. Это означает нецелесообразную, неправильную систему производства… Если посчитать, сколько у нас имеется лишних организаций, органов, насколько разбухли наши штаты в управлениях, сколько там ненужных расходов, без которых народное хозяйство могло бы обойтись, то получается так, что один с сошкой, а семеро с ложкой. На непроизводительной работе сидят и питаются сотни тысяч людей, которые в интересах дела могли бы идти на фабрику, на завод, приобретать действительную квалификацию для производства» [1, с. 279—280].
При этом Ф. Э. Дзержинский непримирим не только к бюрократам, но и рабочим: «…На фабриках и заводах очень часто — излишнее количество рабочих. Лишние рабочие, лишняя рабочая сила на производстве превращают фабрику в собес» [1, с. 280]. И, наконец, его призыв учиться у капиталистов: «Нужно также пропагандировать капиталистический опыт. Мы должны здесь прямо прийти на выучку к капитализму» [1, с. 284] . Однако что значит капиталистический опыт? Это не техника и специалисты, а система организации производства, которая никак не могла быть применена в СССР. Напомним, что речь идет о годах, когда в Советском государстве проводилась новая экономическая политика с допущением рынка, но даже в этих условиях иная система хозяйствования не прививалась. В 1965 году правительство А. Н. Косыгина начнет вводить в экономику страны хозрасчет с его самоокупаемостью и самофинансированием, но реакция советского руководства на пражскую весну 1968 года прекратит данную реформу. Причиной этого будет понятная закономерность: изменение системы управления экономикой влекло за собой изменение системы государственного управления, чего для властей допустить было нельзя. Поэтому все призывы Ф. Э. Дзержинского заимствовать опыт капитализма не могли быть реализованы в рамках существовавшей политической системы.
Чудовищная бюрократизация и неэффективная экономика — вот с чем постоянно сталкивался председатель ВСНХ. «Нужно быть беспощадным по отношению к разбуханию наших аппаратов, штатов и даже целых организаций. Та характеристика, которую дал Владимир Ильич в своих последних статьях нашему аппарату, до сих пор верна», — говорит он в докладе «Борьба за снижение розничных цен» на заседании президиума Совета съездов промышленности, торговли и транспорта СССР 7 мая 1926 года [1, с. 293].
«Мы видели отрицательные стороны нашего аппарата, мы их видим и принимаем меры к их устранению. Здесь — наш худший враг. Наш вождь Владимир Ильич Ленин учил нас, что значит этот враг — плохой аппарат, как он может пожирать и уничтожать любую идею, ради которой он создан», — пишет Ф. Э. Дзержинский в статье «Роль кооперации и ее взаимоотношение с промышленностью», опубликованной в «Торгово-промышленной газете 4 июня 1926 года [1, с. 304]. Ему было с чем сравнивать. Он сталкивался с саботажниками, контрреволюционерами, бандитами, но бюрократия (наш аппарат) — это худший враг. Мысль о том, что аппарат может пожирать и уничтожать любую идею, ради которой он создан, совершенно верная. Аппарат существует только для одной цели — для самого себя, все остальное — это вторичные или просто фиктивные функции.
Если «Торгово-промышленная газета» являлась ведомственным изданием, то следующую статью Ф. Э. Дзержинского напечатала «Правда». Она называлась «Об улучшении работы госаппарата», именно: просто и без обиняков — не о недостатках управления экономикой, а о госаппарате. «Именно теперь пора и своевременно начинать переводить кампанию на рельсы более углубленной и столь же упорной работы по действительному улучшению методов и системы нашего управления и хозяйствования. Борьба за гибкий, экономный государственный и хозяйственный аппарат, за упрощение его структуры и устранение всяких бюрократических наростов должна являться неотъемлемой частью всего периода кампании по рационализации народного хозяйства… Нужно признаться, что наш аппарат до сих пор в малой степени отвечает своему назначению важнейшего фактора по осуществлению индустриализации нашей страны. Он работает еще слишком слабо, страдает большой ведомственной и междуве- домственной путаницей, он обходится нам еще слишком дорого.
Несмотря на внешнюю и фактическую суету деятельности наших органов, достаточно проследить за прохождением какого угодно вопроса, любой учрежденской бумажки, чтобы убедиться, с какой черепашьей подвижностью работает наш аппарат. Его громадная инертность исходит прежде всего от явно излишнего сверхцентрализма. Разрешение и окончательная санкция даже мелочных вопросов восходит до самых верхних руководителей. Такой порядок оправдывался и был необходим в первые пореволюционные годы. Но сохранение его на данной стадии нашего строительства есть вреднейший пережиток. Он создает многоступенчатую иерархию бюрократических инстанций, обезличивает фактических выполнителей той или иной работы и сопровождается огромной волокитой. Этот метод работы пропитывает весь уклад взаимоотношений управляющих и управляемых органов» [1, с. 308—309].
«Мелочная опека, необходимость получения санкции на каждый предпринимаемый шаг парализует инициативу и затрудняет возможность маневрирования. Предприятия заваливаются требованиями самых разнообразных сведений, отчетов, стратегических данных, образующих в итоге бесконечный бумажный поток, который заставляет содержать раздутые штаты и в котором тонет живое дело» [1, с. 310].
«Положение с отчетностью и статистикой прямо катастрофическое. Предприятия с величайшим напряжением выносят бремя представления сведений по десяткам и сотням различных форм. Отчетность начинает измеряться пудами» [1, с. 311].
Дзержинский Ф. Э. перечисляет здесь характерные черты командно-административной системы: бюрократические наросты, раздутые штаты, сверхцентрализм, мелочная опека, огромный бумагооборот. Но дело в том, что эти признаки как раз и являются основой данной системы, они ей внутренне присущи, и избавиться от них в рамках этой же системы невозможно.
Катастрофическое положение с отчетностью и статистикой Ф. Э. Дзержинский проиллюстрировал на конкретном примере: «Наша система и наша практика управления являют- ся одной из важнейших помех, препятствующих поднятию производительности труда в тех органах, которые создают материальные ценности. Мне вчера показывал председатель Резинотреста, как бумажка, присланная в Ре-зинотрест из саратовского отделения с запросом, проходила через 32 руки для того, чтобы по почте был послан ответ. Председатель треста мне указал, что выяснилось, что достаточно только 5 рук, чтобы эта бумажка получила ответ» [1, с. 323—324].
Будучи особым и к тому же господствующим общественным классом, советская бюрократия должна была иметь все самое лучшее, в том числе и в материально-денежной сфере. Значительные расходы, как государственные, так и каждого конкретного предприятия, должны были идти на их содержание. Точнее: что значит «должны были идти»? Это сама бюрократия и направляла их на саму себя. «Мне недавно говорили, — приводил Ф. Э. Дзержинский в речи «На борьбу с болезнями управленческого аппарата» на совещании ответственных работников ВСНХ СССР 9 июля 1926 года такой пример, — что в одном из крупнейших трестов на содержание аппарата тратится до 40 % по сравнению с тем, что платится рабочим» [1, с. 331].
Много было таких, как Ф. Э. Дзержинский, которые действительно ратовали за улучшение госаппарата и всей системы управления, или мало, неизвестно. По логике существования систем — немного. В любом случае все его усилия оказались напрасными. Кого призывал неугомонный и небезразличный председатель ВСНХ? Кто его слушал и аплодировал? Те, с кем боролся Ф. Э. Дзержинский, ничего менять не только качественно, но и в деталях не собирались. Их почти все устраивало. Не все, но почти все. Например, еще существовал партмаксимум, то есть максимальный месячный оклад для руководящих членов партии, но вскоре (с 1929 по 1932 год) отменят и его.
В своей последней речи (на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 20 июля 1926 года) Ф. Э. Дзержинский словно подводил итог своего противостояния с системой и аппаратом. А итог такой: ничего не изменилось, возможно, только к худшему: «Если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозможными согласованиями, то от всего этого я прихожу прямо в ужас» [1, с. 347].
Дзержинский Ф. Э. умер от перенапряжения сил после этого заседания, когда из-за нервного срыва он уже не мог самостоятельно сойти с трибуны, система же одержала очередную победу.