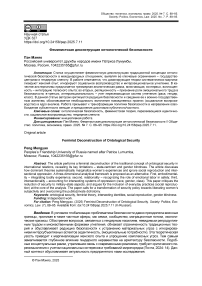Феминистская деконструкция онтологической безопасности
Автор: Пэн Мэняо
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья осуществляет феминистскую деконструкцию традиционной концепции онтологической безопасности в международных отношениях, выявляя ее ключевые ограничения – государствоцентризм и гендерную слепоту. В работе отмечается, что доминирующие теории систематически маргинализируют женский опыт, игнорируют социальное воспроизводство и интерсекциональное угнетение. В качестве альтернативы предлагается трехмерная аналитическая рамка, включающая, вопервых, воплощенность – интеграцию телесного опыта; вовторых, реляционность – признание роли эмоционального труда в безопасности; втретьих, интерсекциональность – учет пересекающихся систем угнетения (раса, гендер, класс). В данной статье автором критикуется редукция безопасности и сведение ее к военногосударственным аспектам, обосновывается необходимость включения повседневных практик (социальное воспроизводство) в ядро анализа. Работа призывает к трансформации политики безопасности в направлении освобождения субъектности женщин и преодоления дихотомии публичного/частного.
Онтологическая безопасность, феминистская теория, пересекающиеся идентичности, социальное воспроизводство, гендерная слепота
Короткий адрес: https://sciup.org/149148765
IDR: 149148765 | УДК: 327 | DOI: 10.24158/pep.2025.7.11
Текст научной статьи Феминистская деконструкция онтологической безопасности
Целью настоящей работы являлось осуществление феминистской деконструкции онтологической безопасности.
Для ее достижения мы последовательно решили ряд исследовательских задач, среди которых: определение теоретической основы исследования через рассмотрение содержания термина «онтологическая безопасность» в рамках психологии и социологии; критика традиционных теорий безопасности; предложение феминистской деконструкции существующей парадигмы через три критических подхода к онтологической безопасности; определение перспектив исследования.
Методами работы были избраны: терминологический анализ, рассмотрение традиционных теорий онтологической безопасности через обращение к источникам научной литературы; описание распространенных представлений о достижении безопасности, их критический анализ; продуцирование нового знания на основе переосмысления и приращения имеющихся положений об онтологической безопасности за счет формулирования положений системы феминистской деконструкции существующей парадигмы онтологической безопасности и актуализации внимания на роли женщин в ее достижении; интеграция размышлений в выводах.
Содержание термина «онтологическая безопасность» в рамках психологии и социологии . Понятие «онтологической безопасности» имеет междисциплинарные истоки, восходящие к психологии и социологии.
Р.Д. Лэйнг в рамках клинического психоанализа выдвинул тезис о том, что индивидуальная онтологическая безопасность формируется через постоянное обретение экзистенциальной уверенности и социальной принадлежности. Их отсутствие, как показал Р.Д. Лэйнг, ведет к состоянию онтологической тревоги – когнитивному дисбалансу, искажающему процессы принятия решений (Laing, 1990: 39).
Э. Гидденс развил эту идею в теории структурации, подчеркнув, что потребность в онтологической безопасности служит микроосновой воспроизводства социального порядка. Согласно ученому, через практическое сознание субъект выстраивает когнитивную согласованность между самоидентификацией, взаимодействием с другими и институциональной средой, тем самым фиксируя смыслы существования (Giddens, 1991: 36).
В конце XX в. понятие онтологической безопасности было адаптировано для анализа международных отношений. А. Вендт ввел концепцию коллективного «Я», проводя аналогию между государством и личностью (Wendt, 1999: 218), что заложило методологическую основу для последующих исследований.
Дж. Митцен аргументировала, что онтологическая безопасность выступает ключевой потребностью государств: подобно индивидам, они стремятся к стабильной когнитивной среде, создавая концепции для преодоления угроз идентичности в международном сообществе (Mitzen, 2006: 342).
С момента своего возникновения теория онтологической безопасности сохраняет государство в качестве ключевой единицы анализа, акцентируя механизмы поддержания порядка через конструирование «идентификационной преемственности» и нейтрализацию «онтологической тревоги». Однако данная теоретическая рамка страдает явными недостатками «государствоцен-тризма» и «гендерной слепоты», игнорируя потребности и опыт отдельных акторов (особенно женщин). Традиционная концепция безопасности, будучи избыточно расширенной и универсалистской, не учитывает асимметричные властные отношения (не только гендерные) и реализуется преимущественно через государствоцентричные практики (Hudson, 2005: 156). Основные исследования безопасности в международных отношениях десятилетиями фокусировались на макропараметрах – военной и государственной безопасности, систематически маргинализируя микропроблемы повседневности.
Феминистская критика, представленная работами К. Энлоу и Л. Сьоберг, нивелирует государство как центрального актора безопасности. К. Энлоу через гендерный анализ военной логистики и миграционного труда помещает женщин в эпицентр исследования («Где женщины?»), вскрывая их структурную периферийность в практиках безопасности (Enloe, 2014: 6). Л. Сьоберг, синтезируя различные феминистские подходы, демонстрирует системное игнорирование гендерного измерения в традиционных исследованиях безопасности (Sjoberg, 2013: 279). Ученые предлагают вывести само это понятие за пределы «выживания государства», учитывая в трактовке безопасности такие аспекты, как гендерное насилие, неоплачиваемый домашний труд и труд по уходу, а также интерсекциональное угнетение.
В условиях становления многополярного мира проблематика безопасности преодолела узкие военные рамки, проникая в приватные сферы и затрагивая семью, социальные сообщества, миграционные потоки, экологические кризисы. Обострение вызовов, таких как гендерное насилие, неоплачиваемый репродуктивный труд и множественные формы угнетения, выявило ограниченность традиционных западноцентричных теорий, сводящих безопасность к устранению материальных угроз при игнорировании интерсубъективных аспектов (идентичность, эмоциональные потребности). Эта эпистемологическая узость маргинализирует женский опыт и редуцирует комплексные угрозы, нивелируя системное влияние гендерного неравенства на архитектуру безопасности. Доминирующие парадигмы, укорененные в логике «однополярного момента», не учитывают практик онтологической безопасности снизу, формируемых в государствах БРИКС и Глобального Юга. Подобные концептуальные альтернативы требуют переосмысления устаревших подходов через призму национальных интересов и требований полицентричного миропорядка (Почта, 2024: 14).
Критика государствоцентризма и традиционных теорий безопасности . С момента формирования Вестфальской системы дисциплина международных отношений неизменно рассматривает национальное государство как ключевую единицу анализа безопасности. Эпистемологические основы данной парадигмы восходят к политической философии Т. Гоббса о Левиафане как гаранте порядка: «Государство, как Левиафан, пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц способными направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних врагов» (Гоббс, 1988: 133).
Хотя теория онтологической безопасности Дж. Митцена включила в анализ непрерывность идентичности, преодолев материалистический подход, ее методология остается в плену государствоцентричной когнитивной модели. Путем антропоморфизации государство сводится к единому актору с монолитной психологией, предполагая, что его нарративы полностью выражают запросы общества. Это игнорирует практики негосударственных акторов.
Государствоцентричный подход «сверху вниз» имеет следующие два ключевых ограничения.
Во-первых, системная маргинализация гендерного опыта безопасности. Государственный дискурс через символическую политику конструирует женское тело как образ территории, требующей защиты, но отрицает его автономность как субъекта безопасности. Исследование Л. Хансен о Балканских войнах выявило, что более 20 000 случаев системных изнасилований в официальных нарративах расценены как неизбежный атрибут войны и исключены из сферы угроз международной безопасности (Hansen, 2000: 56). Такая дискурсивная стратегия, осуществляя де-субъективацию сексуального насилия, превращает насилие над женскими телами в сноску к национальной травме.
Аналогично системная приватизация домашнего насилия в большинстве обществ мира отражает патриархальную норму, ставящую репутацию семьи или общины выше благополучия женщин-жертв. Например, китайская поговорка «Сор из избы не выносят» через механизмы социальной дисциплинации и скрытой нормализации приоритетизирует «семейную честь» над правом женщин на жизнь, поэтому на начальных этапах насилия пострадавшие женщины, как правило, воздерживаются от обращения во внешние инстанции.
По данным газеты «Пекинские новости», китайки, подвергающиеся домашнему насилию, в среднем переживают 35 его эпизодов перед тем, как обратиться в полицию1. Данный феномен отражает глубоко укорененное восприятие подобных инцидентов как угрозы репутации семьи, что приводит к системному занижению реальной статистики и неадекватному реагированию правоохранительных органов. Как следствие, индивидуальная травма пострадавших женщин маргинализируется в публичном дискурсе, трансформируясь во второстепенный аспект поддержания семейной чести.
Традиционные исследования безопасности не учитывают поддерживаемую женщинами «невидимую инфраструктуру безопасности», формируемую через их повседневную практику (управление водными ресурсами, реагирование на стихийные бедствия, восстановление сообществ после конфликтов и т. д.). Например, при ликвидации последствий стихийных бедствий нагрузка женщин по домашнему труду и уходу резко возрастает на продолжительный период. Они выполняют значительный объем работ, но это часто игнорируется (Khalid et al., 2020: 730). Женщины не имеют права голоса при ликвидации последствий стихийных бедствий. Данный разрыв между их практическим вкладом и институциональным правом голоса подтверждает гендерный разлом в понимании безопасности.
Эпистемологическая ущербность традиционной парадигмы безопасности не только демонстрирует ограниченность объяснительного потенциала теории, но и выявляет структурное игнорирование проблем социального воспроизводства. Как показал критический дискурс-анализ Дж. Тикнера, традиционные исследования безопасности сужают само это понятие до «милитаризованной государствоцентричной концепции», сводящейся к устранению угроз существованию государства силовыми методами (Tickner, 1992). Эта трактовка основана на идеологии дихотомии частного и публичного: сфера «высокой политики» с ее военной безопасностью наделяется онтологическим приоритетом, а трудовые практики женщин (репродуктивный труд, перераспределение ресурсов, создание локальных сетей взаимопомощи) маргинализируются как «низкая политика» (Tickner, 1992: 5).
Упрощение безопасности до «защиты от угроз» в рамках андроцентричной модели затеняет фундаментальную роль социального воспроизводства как основы безопасности. Как отмечает Н. Фрейзер, кризис социального воспроизводства стал ключевой угрозой современным системам безопасности. Исторически общественно значимые процессы, такие как рождение и воспитание детей, забота о близких, поддержание домашнего хозяйства и социальных связей, воспринимались как исключительно «женская работа», хотя мужчины также могут участвовать в этой деятельности. Этот труд, сочетающий эмоциональную и материальную составляющие и часто остающийся неоплаченным, является жизненно важным для общества. Без него невозможно существование культуры, экономики или политических институтов. Ни одно общество, систематически подрывающее условия социального воспроизводства, не может сохраняться длительное время (Fraser, 2016: 99). Без воспроизводящего труда в сфере ухода, воспитания и заботы любая милитаризированная система безопасности неизбежно столкнется с коллапсом вследствие дезинтеграции трудовых ресурсов.
Как выше изложено, реконструкция исследований онтологической безопасности требует преодоления эпистемологических оков бинарной оппозиции публичного и частного и включения социального воспроизводства в центральную категорию анализа безопасности. Этот теоретический поворот на эпистемологическом уровне входит в резонанс с этикой заботы феминистской теории международных отношений, а на методологическом – формирует парадигмальную синергию с концепцией «безопасности как освобождения» в рамках критических исследований безопасности. Последние, конструируя многомерную онтологию, радикально деконструируют предположение о «нулевой сумме» в отношениях между государством и индивидом. Ключевая цель безопасности – освобождение людей от материальных и идеологических ограничений, включая бедность, угнетение и манипуляцию сознанием. Как отмечает К. Бут, если бы концепция «человеческой безопасности» действительно привела к сдвигу политического фокуса – от восприятия государств как основных референтов безопасности к их пониманию в качестве локальных агентов всеобщего человеческого освобождения, а также от использования людей как средства государственной политики к признанию их ее конечной целью, то ее появление имело бы историческое политическое и психологическое значение. Такая формулировка ознаменовала бы подлинную победу проекта прав человека (Booth, 2007: 323). То, как человечество осмысляет свою природу, критически важно для будущего глобальной безопасности (Booth, 2007: 381).
Однако вопросы безопасности женщин по-прежнему остаются на периферии общечеловеческой повестки. Сегодня ключевая задача феминистских исследователей – через институты Совета Безопасности ООН постепенно продвигать онтологическую безопасность женщин из маргинального положения в эпицентр международной безопасности, где доминирующими акторами остаются суверенные государства.
Надо подчеркнуть, что феминистская критика государства не тождественна его отрицанию. Его реформированные институты могут стать проводниками женской безопасности.
Феминистская деконструкция: три критических подхода . В ответ на структурные ограничения традиционной парадигмы онтологической безопасности феминистская теория разработала три взаимосвязанных направления критики, сформировав трехмерную аналитическую рамку «воплощенность – реляционность – интерсекциональность». Рассмотрим каждый из ее элементов.
-
1. Воплощенная безопасность. Феминистская теория преодолевает картезианский дуализм тела и сознания, возвращая физическую оболочку человека в центр анализа безопасности. Женский телесный опыт занимает важное место в феминистском анализе – как в академической, так и в активистской среде. Однако женское тело все еще остается в маргинализированном положении по отношению к мужскому (Порфирьева, 2023: 43). Конфликты на Балканах (1992–1995) демонстрируют системное использование сексуального насилия как инструмента этнических чисток. Во время Боснийской войны (1992–1995) средняя школа в городе Фоча и стадион Партизана стали одними из основных мест систематических изнасилований, превратившись в так называемые «центры насилия». По свидетельствам выживших, некоторые женщины подвергались изнасилованиям в этих двух местах более 150 раз (Kuran, 2023: 1069). Как отмечает М. Нуссбаум (Nussbaum 2009: 111), женские тела стали не просто объектами физического насилия, но и символическими инструментами разрушения коллективной идентичности. Эта двойственность вскрывает онтологический изъян традиционной парадигмы безопасности, искусственно разделяющей физическую (телесная
-
2. Реляционная безопасность. Феминистская политическая экономия, деконструируя про-дуктивистские предубеждения традиционных концепций безопасности, выявляет ключевую роль эмоционального труда в формировании реляционной безопасности. Она зависит не только от материальных производственных систем, коренится в сетях социальных отношений, где эмоциональный труд выполняет структурообразующую функцию. В контексте нетрадиционных угроз, таких как миграционные кризисы, эмоциональный труд женщин приобретает двойственную природу: как инфраструктура заботы, обеспечивающая физическое выживание, а также как реляционный компенсаторный механизм, восполняющий провалы публичного управления.
-
3. Интерсекциональная безопасность. Новаторская теория интерсекциональности К. Креншоу радикально деконструировала гомогенизированные предпосылки традиционных исследований безопасности (Crenshaw, 1989: 140). Данная теоретическая рамка подчеркивает, что опыт безопасности маргинализированных групп представляет собой не линейную сумму отдельных идентичностей, а продукт динамического взаимодействия систем угнетения – таких как раса, гендер и класс – в конкретных социальных контекстах. Последующие исследования расширили аналитический потенциал этой теории.
целостность) и идентификационную безопасность (принадлежность к группе). С одной стороны, на микроуровне подобное сексуальное насилие может быть рассмотрено как воплощенная форма территориального завоевания, направленная на уничтожение телесной автономии женщин; с другой стороны, на макроуровне такое поведение военнослужащих может быть расценено как инструмент этнической чистки, подрывающий саму основу групповой идентичности. Травма жертв не поддается полноценному нарративному устранению в рамках государственных институтов, что подтверждает необходимость феминистской переоценки концепции безопасности.
Систематическая девальвация и обесценивание работы по уходу и эмоционального труда женщин являются ключевой характеристикой гендерной эксплуатации при капитализме (Robinson, 2011: 92), что подрывает реляционные основы социальной безопасности. Она особенно ярко проявилась во время пандемии COVID-19. В этот период, несмотря на рост неоплачиваемого труда по уходу среди обоих полов, гендерное бремя осталось неравномерным. В 16 странах среднее время, затрачиваемое женщинами на уход за детьми, увеличилось с 26 до 31 часа в неделю, тогда как у мужчин – с 20 до 24 часов1. Примечательно, что даже при совместном нахождении дома продолжительность «родительских смен» женщин оставалась значительно выше. Данный механизм неравномерного распределения занятости отражает устойчивость гендерного разделения репродуктивного труда, а также обнажает гендерную слепоту в стратегиях кризисного управления, где женщины через неоплачиваемую работу компенсируют скрытые издержки социального функционирования. Как следствие, реляционная безопасность женщин дестабилизируется в условиях этой гендерно-обусловленной эксплуатации.
Подобное разделение эмоционального труда воспроизводится через механизмы двойного отчуждения. Во-первых, натурализация профессионализма женщин (например, объяснение способности ухаживать биологическими особенностями женщин); во-вторых, моральное обесценивание экономического вклада женщин (например, маскировка трудовых затрат под «материнский инстинкт»). Качества людей того или иного гендера являются не следствием половых различий, а результатом воспитания и самостоятельного формирования в рамках культурных и социальных ожиданий (Чаганова, 2023: 81). Такой идеологический сговор между колониальностью и социально формируемым обучением приводит к устойчивой маргинализации эмоционального труда в политике и рыночном ценообразовании. Для преодоления данной ловушки и обеспечения реляционной безопасности женщин необходимо деконструировать дихотомию «производство – воспроизводство», признать эмоциональный труд в качестве производственной основы реляционной безопасности, а также интегрировать данный аспект в концептуальное ядро исследований безопасности.
Методология сложной интерсекциональности Л. МакКолл преодолела ограничения однокатегорийного анализа, акцентируя асимметричное взаимодействие множественных социальных позиций в структурах власти (McCall, 2005: 1773).
Е. Барвоза операционализировала множественность идентичностей как динамический процесс, включающий противоречивость, реляционность и ситуативность, что открыло новые перспективы для изучения стратегических переговоров идентичности интерсекциональных субъектов (Barvosa, 2008: 113).
Эти кейсы демонстрируют, что традиционная парадигма «идентичность – риск» в теориях безопасности не способна адекватно объяснить механизмы взаимного конструирования множественных систем угнетения и обеспечить интерсекциональную безопасность. Это требует разработки динамических интерсекциональных аналитических рамок в исследованиях безопасности.
Многополярные институты как платформы феминистской солидарности . Феминистская трехмерная рамка онтологической безопасности структурно реализуется в таких институтах многополярного мира, как БРИКС и ШОС.
11 сентября 2024 г. в Циндао открылся Женский форум ШОС с участием 150 экспертов. Ключевая тема – «Цифровизация и экономическое участие женщин», направленная на углубление международного сотрудничества в сфере гендерного равенства. Госсоветник КНР Чэнь Ицинь подчеркнула необходимость всеобщей цифровой грамотности, равного доступа к цифровым возможностям и дружественной цифровой среды для устойчивого развития женщин в странах ШОС1.
Страны БРИКС с 2025 г. включены в проекты Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) «Здоровье женщин – благополучие нации», «Женщина-лидер» и др. Председатель Совета сенатор Галина Карелова также анонсировала создание «Центра промышленных компетенций стран БРИКС» совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), где «женское направление» фокусируется на технологическом вовлечении и инклюзивном промышленном развитии2.
Институты ШОС и БРИКС операционализируют феминистскую онтологическую безопасность через воплощенность (цифровая грамотность как инструмент телесной автономии), реля-ционность (межинституциональные альянсы, реконфигурирующие сети ресурсного распределения), интерсекциональность (технологическая инклюзивность, сплавляющая классовые, территориальные или гендерные измерения). Данная трехмерная синергия преодолевает ограничения идентитарной политики, затеняющей внутригрупповые различия; формирует альтернативу вест-центричным парадигмам через мультиполярную координацию, эмпирически доказывая, что ин-терсекциональность не абстрактная конструкция, а материальная практика.
Заключение . Посредством деконструктивного анализа мы продемонстрировали, что классическая теория онтологической безопасности остается заложницей государствоцентризма и гендерной слепоты. Главная инновация этой теории в исследованиях международной политики заключается в ее фокусе на индивидуальных психологических корнях идентичности, норм и принадлежности, а также в акценте на роли социальных практик в формировании «Я». Однако ее теоретическое ядро сохраняет маскулинные онтологические предпосылки, абстрагируя государство как «бесполого рационального актора» и универсализируя мужской опыт гражданской идентичности.
Критикуя традиционную парадигму безопасности за систематическое замалчивание женского опыта, структурное игнорирование социального воспроизводства, а также упрощенную трактовку интерсекционального угнетения, мы постулируем необходимость реконструкции теории онтологической безопасности. Феминистская трехмерная рамка «воплощенность – реляци-онность – интерсекциональность» не только интегрирует телесную политику, эмоциональный труд и множественные системы угнетения в ядро анализа онтологической безопасности, но и бросает вызов бинарной логике противопоставления публичной и приватной сфер, открывая новые пути для понимания сложности и многообразия проблем безопасности.
В будущих исследованиях необходимо углубленно изучить практики женской безопасности в незападных контекстах, способствовать трансформации политики ее реализации от «защиты от угроз» к «освобождению субъектности», чтобы обеспечить этическую направленность исследований безопасности и цель человеческой эмансипации.
Следует помнить, что в условиях многополярной мировой архитектуры перспектива онтологической безопасности заключается не в отрицании государства или региона, а в необходимости реализации креативной трансформации их институтов через принцип комплементарности – трансмутации государственной машины из контролера в субъект-созидателя, что в итоге позволит сформировать динамическую экосистему безопасности, основанную на синтезе множественных акторов.