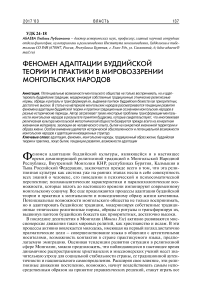Феномен адаптации буддийской теории и практики в мировоззрении монгольских народов
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Потенциальные возможности монгольского общества не только воспринимать, но и адаптировать буддийские традиции, модернизируя собственные традиционные этнические религиозные нормы, обряды и ритуалы и трансформируя их, выдвинув пантеон буддийских божеств как приоритетных, достаточно высоки. В статье на материале монгольских народов рассматриваются тенденции развития феномена адаптации буддийской теории и практики традиционным сознанием монгольских народов в разные исторические периоды. Автор затрагивает также некоторые проблемы трансформации ментальности монгольских народов в результате принятия буддизма, которые свидетельствуют, что многовековая религиозная культура монгольской метаэтнической общности базируется прежде всего на конкретном жизненном материале, эволюции ее человеческого опыта, бытия на конкретной жизненной территории и образа жизни. Особое внимание уделяется исторической обусловленности и потенциальной возможности монгольских народов к адаптации инновационных структур.
Адаптация, феномен, монгольские народы, традиционный образ жизни, буддийская теория и практика, локус бытия, тенденции развития, возможности адаптации
Короткий адрес: https://sciup.org/170168726
IDR: 170168726 | УДК: 24-18
Текст научной статьи Феномен адаптации буддийской теории и практики в мировоззрении монгольских народов
Ф еномен адаптации буддийской культуры, являющейся и в настоящее время доминирующей религиозной традицией в Монгольской Народной Республике, Внутренней Монголии КНР, республиках Бурятия, Калмыкия и Тыва Российской Федерации, заключается прежде всего в том, что эта религиозная культура как система уже на ранних этапах несла в себе совокупность всех знаний о человеке, его поведении в психической и психосоматической перспективе; психоаналитические характеристики и парапсихологические возможности, которые вплоть до настоящего времени импонируют современному монгольскому социуму. Все еще продолжаются процессы адаптации буддийской теории и практики к ментальности и повседневному образу жизни кочевника. Потенциальные возможности монгольского общества не только воспринимать, но и адаптировать буддийские традиции, модернизируя собственные традиционные этнические религиозные нормы, обряды и ритуалы и трансформируя их, выдвинув пантеон буддийских божеств как приоритетных, достаточно высоки.
В последние десятилетия в Монголии (Монгол Улс) активно развиваются миссионерские движения таких мировых религий, как христианство и ислам. В эти процессы активно вовлекается молодежь, имеющая на первый взгляд достаточно прагматические цели – совершенствование языка в общении с аутентичными носителями, возможность контактов в стране практикуемого языка, предполагаемую эмиграцию. Оценивая тенденции развития ситуации в религиозной сфере Монголии, можно предположить, что наблюдающееся в настоящее время динамичное распространение христианских и миссионерских учений несет значительную угрозу для социальной стабильности страны, ее традиционной аутентичности и национального самоопределения. Расширяя свое влияние, эти религиозные движения постепенно, возможно, начнут воздействовать самым непосредственным образом на принятие управленческих решений, станут играть все более заметную роль на внутриполитической арене, создавая благоприятные условия для активизации западных политических и деловых кругов.
Полевой эмпирический и архивный источниковедческий материал, собранный нами во время полевых исследований во Внутренней Монголии КНР, Монголии, Республике Бурятия, убедительно свидетельствуют, что многовековая религиозная культура монгольской метаэтнической общности базируется прежде всего на конкретном жизненном материале, повседневной эволюции ее человеческого опыта и ее бытия на конкретной жизненной территории. При этом религиозная культура монгольских этносов, как и все этнокультурные структуры, созданные в результате творческого потенциала автохтонных насельников, включает в себя и естественнонаучное определение множества миров и культур, онтологическую множественность материальных миров и культур в бытийном смысле, при этом не отрицая логические возможные миры и культуры, а также предполагая и вкладывая некий мистический смысл в возможную произвольность миров, а стало быть и культур1.
В последнее время в векторе развития философии культуры наметилась тенденция рассматривать этнокультурные феномены не как общечеловеческие производные данные, а как конкретную этнокультурную традицию, созданную не в человеческом пространстве вообще, а в пространстве конкретного места, имеющего, соответственно, все конкретные геофизические, географические, ландшафтно-климатические, хозяйственно-культурные, языковые и ментальные характеристики, т.е. в конкретном локусе. Локус бытия для монгольского кочевника является не только сакральной, родовой или племенной территорией пространства, зафиксированной специфической религиозной культурой на протяжении тысячелетий, о чем пишут многие исследователи, но и гораздо более прозаичным местом, в котором он рождается, растет, взрослеет, стареет и умирает. Каждый человеческий индивид в пространстве монголосферы своими повседневными и творческими деяниями как бы одухотворяет то место, где он «присутствует» на протяжении всей своей жизни, являясь малой капелькой, частицей своей этнической и, соответственно, религиозной культуры. Локус его бытия, а значит и локус бытия его народа, является, как правило, для него священным, оригинальным и неповторимым. Вследствие этого в современный период актуальным является исследование универсального и трансцендентного через конкретное изучение локального, уникального и имманентного.
Адаптация религиозных теорий и практик мировых религий, таких как буддизм, христианство и ислам, кроме ярко выраженного интеграционного процесса, носила в какой-то степени интерэтнический, интернациональный и глобализационный характер, изменяя традиционную ментальность народов. Буддийская религиозная культура для кочевой цивилизации монгольской межэтнической общности в разные хронологические периоды, особенно в начале адаптации, была все же инновационной в системе этнокультурных традиций этой общности.
Исследование традиционного мировоззрения монгольских народов, традиционной системы миропонимания и определения места в своем микромире – монголосфере, а также в макромире – вокруг монгольской метаэтнической общности представляется нам очень важным и актуальным с точки зрения культурной антропологии. Традиционное мировоззрение монгольских народов (Хамаг Монгол) выработало своеобразные представления. Картина мира, созданная в результате эволюции монгольской метаэтнической общности, – это достаточно целостная и упорядоченная система, в которой важное место занимают такие категории, как время и пространство.
Начало осмысления категорий пространства и времени в физических, математических и астрономических отраслях естественных наук насчитывает более 2 500 лет. Тем не менее интерес философской и культурной антропологии к категориям пространства и времени в рамках конкретных этнических культур не только не ослабевает до сих пор, но даже, может быть, актуален как никогда [Абаева 2014]. Время в архаическом сознании древних монголов связывалось не только с восходом и закатом солнца и его положением в зените. Оно представлялось в виде особого порядка смены физических состояний – сезонных периодов, многих физических и природных процессов, которые фиксировались народными знаниями и преставлениями. До сих пор рядовой монгол может с точностью до нескольких минут определить время, находясь в юрте, – по движению и нахождению солнечного луча внутри юрты (через дымовое отверстие). Кочевая культура, как никакая другая, имела четкое представление о необратимости времени и стремилась отметить этот феномен в своих этногенетических, космологических и космогенетических мифах. Необратимость времени воспринималась монгольскими народами как сложная система взаимодействия и воздействия множества природных систем друг на друга. Например, прошлое нельзя воспроизвести в реальной жизни; прошлое забывается, если его не зафиксировать посредством сохранения и трансляции потомкам уникальных культурных феноменов и исторических записей. Генеалогические знания и традиция их трансляции последующему поколению (до седьмого-девятого колена) является уникальным этнокультурным символом бережного отношения к такой категории, как время. Прошлое для монгола – это «стрела времени», летящая всегда из прошлого, через настоящее – в будущее.
Общеизвестно, что во взаимоотношениях «культура – общество», «человек – общество», «человек – религия» особый акцент делается на выявлении особенностей их проявления на разных уровнях, в разных сферах и на разных этапах истории культуры. В культуре как одной из главных сфер раскрытия этнического этнос выявляется в актах коллективного и индивидуального творчества людей, пытающих раскрыть вовне сокровенный внутренний мир своего мировосприятия, базируясь в основном на конкретных этнокультурных традициях.
Тема раскрытия специфики ментальности креативного общества и человека внутри этого общества через призму религиозной культуры представляется нам особо актуальной. Изучение феноменов культуры разных исторических эпох и разных этнических традиций способствует не только выявлению внешних индикаторов этничности, но и осмыслению сущностной специфики этнокультурной общности. Известный теоретик культуры М.С. Каган пишет: «…в средневековой культуре в Европе явственно различаются, по крайней мере, четыре культурных слоя (субкультуры): 1) крестьянский, фольклорный, во многом сохраняющий традиции языческой культуры первобытности; 2) религиозная субкультура, живущая в храмах, монастырях и, в частности, жизни людей этого времени; 3) субкультура светская, рыцарская и придворно-аристократическая, политизированная, этизированная и эстетизированная в совсем ином духе, чем культура религиозно-спиритуалистическая, аскетическая, антигедонистическая; 4) бюргерская культура формирующегося города, культура ремесленников, торговцев, представителей нарождающейся интеллигенции...» [Каган 1996: 99].
Феноменальным является также и то, что монгольская метаэтническая общность на раннем этапе адаптации некоторых (не всех) постулатов буддийской теории и практики все же эволюционно интегрировалась уже в рамках буддийской культуры, восприняв не только буддийскую обрядовую и культовую практику, но и всю ее доктринально-философскую систему, органично внеся в их канву и добуддийские религиозные знания и практики. Насельники Великой степи были практически готовы воспринять и закрепить новую религиозную систему в своих этнокультурных символах. Однако ментальность как духовнообразующая субстанция их религиозных навыков, верований и традиций существенно изменилась.
В последнее время в исследованиях религиозных традиций все больше преобладает пристальное внимание к религиозной культуре как специфическому фактору индивидуального и социального развития. Осмысление явления глобализации, наблюдающейся на рубеже тысячелетий, к нашему глубочайшему изумлению, практически не предусматривает четко выраженной теории и перспективы развития обществ, сообществ и человеческого мира в целом и его культуры в частности. И здесь возникает вопрос, в какой зависимости необходимо в процессе глобализации рассматривать человеческую природу и динамику культуры, религиозную культуру и категории ценности, способы и методы культурной интеграции, а также проблемы и методы свободы и несвободы в стратегии развития культурной перспективы. Глобализация актуализирует необходимость изучения новых и новейших форм аксиологических инноваций современного человеческого сообщества.
Политологические, социологические и экономические аспекты процесса глобализации достаточно освещены в современных научно-практических изысканиях, и они свидетельствуют о том, что этот процесс необратим. Философская же антропология до сих пор не создала теорию дальнейших перспектив развития этносов и их культур, в частности религиозных, в структуре этих глобальных этносоциальных процессов. На наш взгляд, глобализация в значительной степени трансформирует те духовные сферы этнических культур, которые воспитывают личность по определенным стереотипам, расшатывая традиционную систему ценностей, деструктивно влияя на морально-этнический и психологический облик индивида, который все же остается членом конкретного этнокультурного и этносоциального организма.
Не отрицая наличия процесса глобализации в планетарном масштабе, фиксируя тенденции современных сообществ к интеграции на различных уровнях, хотелось бы все же отметить, что и в XХI в. существует и актуализируется проблема человека в локально-исторических типах культуры как естественно возникших и самодостаточных этносоциальных системах. Антропологические исследования соотношения традиционного мировоззрения, вышедшего из недр этнической культуры, и философии мировосприятия современных синкретических мегакультур выявляют (хотим мы этого или нет) тот факт, что причины дегуманизации, самоотчуждения индивида, а также появления некоторых деструктивных религиозных центров и организаций, вовлекающих в сферы своего влияния все большее число «растерянных» индивидов, базируются все же на феномене глобализации.
История развития человеческих популяций с точки зрения биологических и социальных сообществ свидетельствует, что наиболее серьезными культурогенными субъектами были скорее полиэтнические культуры нежели моноэтнические, что, казалось бы, свидетельствует в пользу процесса глобализации. Исчезновение многих этносов, адаптация или поглощение их более крупными этносами, интеграция многих этнокультурных традиций под эгидой конкретного титульного этноса, возможно, также фиксируют момент глобализации. Однако практика культурной антропологии свидетельствует о тяготении индивида как члена некоего социума и многих этнических и этнокультурных объединений
(субэтносов, этносов, суперэтносов) к самоидентификации не на планетарном, а на этническом, этнокультурном, этноконфессиональном, этносоциальном и этнотерриториальном уровнях.
Самоидентификация конкретных этнических субкультур и культур, потеряв многие классические парадигмы теории и практики этносов (например, некоторые этносы оказались вне рамок своих автохтонных территорий; доминирующий хозяйственно-культурный тип в силу объективных социальных причин естественно изменился; язык как средство коммуникации и как целостная информационная система, включающая в себя не только язык жестов и мимики, а также огромный пласт языка культуры, пребывает в довольно критической ситуации; культура со всем своим производительным и творческим потенциалом как традиция, как трансляционная структура представляет фрагменты и реликты собственно этнической культуры), играет огромную роль в сохранении этнического самосознания и того особого целостного психологического склада, который, выражаясь современным языком, можно квалифицировать как этнический менталитет. Христианская же религиозная культура, по мнению многих исследователей, в т.ч. теологов, считается одной из самых трудноисполнимых и наиболее противодействующей сущности человеческой природы. «Христианину трудно стоять на высоте своей веры, своего идеала, ибо он должен любить врагов своих, нести крест свой, должен героически сопротивляться соблазнам мира, чего не должен делать ни верующий еврей, ни магометанин, ни материалист. Христианство направляет жизнь нашу по линии наибольшего сопротивления, жизнь христианина есть самораспятие» [Андреев 1993: 109].
В конце хотелось бы отметить, что этнические и этнорелигиозные стереотипы, сформированные традицией в глубине веков, уже обладают механизмами регулирования всей системы жизнеобеспечения своих сообществ и индивидов, тогда как глобализационные процессы, являясь пока инновационными, еще должны выработать и долго будут вырабатывать механизмы социальной регуляции и адаптации сообществ, вовлеченных в эти процессы.
Статья выполнена в рамках проекта «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии» (договор № 14.W03.31.0016 о выделении гранта Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных ФАНО, и государственных научных центрах РФ, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научноисследовательского сектора» государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 г.).
Список литературы Феномен адаптации буддийской теории и практики в мировоззрении монгольских народов
- Абаева Л.Л. 2014. Традиционное мировоззрение монгольских народов в пространстве и времени. -Журнал Международной ассоциации монголоведов «Монголика». Улан-Батор. С. 20-25
- Андреев О.А. 1993. Духовное возрождение личности через анализ мировых религий. -Человек. № 5. Ростов н/Д. С. 64-109
- Каган М.С. 1996. Философия культуры. СПб: Петрополис. 415 c