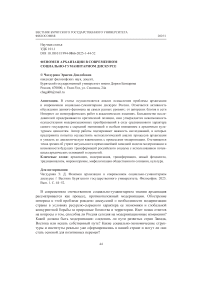Феномен архаизации в современном социально-гуманитарном дискурсе
Автор: Чагдурова Э.Д.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществляется анализ осмысления проблемы архаизации в современном социально-гуманитарном дискурсе России. Отмечается активность обсуждения данного феномена на самых разных уровнях: от авторских блогов в сети Интернет до монографических работ в академических изданиях. Большинство исследователей придерживаются критической позиции, ими утверждается невозможность осуществления модернизационных преобразований в силу средневекового характера самого государства с сырьевой экономикой и особым вниманием к архаичным культурным ценностям. Автор работы подчеркивает важность исследований, в которых предпринята попытка осуществить методологический анализ процессов архаизации и увидеть ее диалектическую взаимосвязь с процессами модернизации. Отстаивается точка зрения об утрате актуальности прямолинейной западной модели модернизации и возможности будущих трансформаций российского социума с использованием потенциала архаических оснований и стратегий.
Архаизация, модернизация, трансформация, новый феодализм, традиционализм, мировоззрение, мифологизация общественного сознания, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/148331671
IDR: 148331671 | УДК: 101.1 | DOI: 10.18101/1994-0866-2025-1-44-52
Текст научной статьи Феномен архаизации в современном социально-гуманитарном дискурсе
Чагдурова Э. Д. Феномен архаизации в современном социально-гуманитарном дискурсе // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2025. Вып. 1. С. 44–52.
В современном отечественном социально-гуманитарном знании архаизация рассматривается как процесс, противоположный модернизации. Обострение интереса к этой проблеме рождено дискуссией о необходимости модернизации страны в условиях ресурсно-сырьевого характера ее экономики и глобальной конкурентной борьбы за природные богатства и территории. Идет поиск ответов на вопросы о том, способна ли Россия сегодня на модернизационные изменения? Какой должна быть модернизация: следовать ли пути развитых стран Запада, Востока или искать собственный путь? Какие социально-экономические структуры и институты реально уже сформировались в нашей стране и могут ли они стать основой для позитивных перемен?
Представители социальной философии, социологии, культурологии, общественные деятели и журналисты с начала века обращают внимание социума на невозможность модернизации в России из-за все более углубляющихся процессов архаизации. Центром наших размышлений становится то, как в социальнофилософском дискурсе России понимается соотношение данных сторон процесса развития. Израильский социолог Ш. Эйзенштадт пишет: «Исторически модернизация есть процесс изменений, ведущих к двум типам социальных, экономических и политических систем, которые сложились в Западной Европе и Северной Америке в период между XVII и XIX веками и распространились на другие страны и континенты» [14, c. 234]. Аналогичной точки зрения придерживаются в основном авторы, чьи публикации мы рассматриваем в данной статье. В самом общем смысле под модернизацией понимается трансформация традиционного общества, всех его структур и систем в современное, построенное по западному образцу.
Данному пути развития в России противостоят процессы архаизации, которая, вслед за А. С. Ахиезером, отечественным философом и культурологом, понимается как результат «следования субъекта культурным программам, исторически сложившимся в тех пластах культуры, которые сформировались в более простых условиях, в условиях догосударственной жизни, уже не отвечающих возросшей сложности мира, характеру и масштабам опасностей. На кризис люди отвечают возвратом к старым идеям, т. е. архаизация выступает как форма регресса» [2, c. 89].
Встречаются обсуждения и публикации в интернет-ресурсах, статьи в печатных СМИ, в научных изданиях, монографии и диссертационные исследования, с разных ракурсов и на разном уровне анализирующие феномен архаизации (Шляпентох В. «Современная Россия как феодальное общество» (2008), Кордон-ский С. «Сословная структура постсоветской России» (2008), Плискевич Н. «Архаичный патернализм как органическая часть системы “власть-собственность”» (2018) и др.). Абсолютное большинство авторов, так или иначе обращающих внимание на данную проблему, придерживаются точки зрения, сформулированной Ахиезером и отмечающей ее негативные стороны. Интернет-ресурсы пестрят публикациями на данную тему, при этом ставка делается на броские заголовки и агрессивные тексты. В то же время встречаются попытки найти в архаических стратегиях и положительные моменты.
Например, в журнале «Новые известия» 20 апреля 2023 г. была размещена небольшая аналитическая статья, в которой приводились диаметрально противоположные точки зрения на процесс архаизации, распространяющиеся в интер-нет-пространстве через каналы политолога А. Никулина и сетевого аналитика А. Песоцкого. Никулин придерживается критической позиции и рассматривает архаизацию как возрождение феодальных взаимоотношений в современной российской бюрократической системе, в которой наблюдаются взаимоотношения по типу феодала (крупного чиновника любой сферы государственного управления) и прикормленной им «клиентеллы». Феодал обязан предоставлять своим вассалам доступ к необходимой им «кормушке» или «охотничьим угодьям». В случае отказа от содержания вассалов, постоянной заботы о поддержании собственного высокого положения новый феодал рискует своим положением, опасностью оказаться оттесненным от власти своими же вассалами. Ради сохранения собственного благополучия он вынужден все более обогащаться «и подминать под себя деньги, бизнесы и регионы»1, эксплуатируя податное население. Именно этим объясняется сила и устойчивость феодальной пирамиды власти, которую автор считает аномальным явлением для XXI в. и для ее уничтожения необходима стремительная модернизация.
Песоцкий же придерживается мнения, что именно архаизация спасла Россию в 2022 г. Он рассматривает ее, главным образом, как простоту экономической жизни, ориентированной на продажу энергоресурсов. В условиях санкций, начавшихся в 2022 г., именно сырьевой феодализм, по его мнению, позволил стране удержаться на плаву [11].
Журналист В. Лакодин опубликовал в 2021 г. на платформе Тексттерра статью «Русский код — что в нем изменилось». В этой статье автор утверждает, что российскому социуму в последние десятилетия психологически помогает удержаться на плаву то, что он занялся потребительством (своеобразный путь бегства от действительности) и увлекся архаической духовностью. Опираясь на социологические исследования, опубликованные в интернет-ресурсах (материалы Лева-да-центра), автор пишет о том, что россияне боятся будущего, они не уверены в своих возможностях «отвечать за свою жизнь и поведение, воздействовать на окружающую социальную среду — общественную и политическую жизнь» [8]. Действительно наблюдается объективное ухудшение социально-экономического уровня жизни населения. При отсутствии стабильного среднего класса, являющегося основным налогоплательщиком, работодателем и источником новых точек экономического роста, уровень потребительской активности россиян необычайно высок. Видимость благополучия, обеспеченная кредитами, ипотеками и пр., в реальности погружает россиян в состояние длительного стресса, прессинга сроков выплат, невозможности заболеть, потерять работу и всю свою иллюзорную «стабильность». Ссылаясь на работы А. Ситникова (политтехнолога, доктора экономических и психологических наук), автор причиной слабого уровня формирования среднего класса в России считает то, что коммерческая деятельность в целом чужда традиционному сознанию социума. Россияне видят в ней отчуждение человека от человека, лишение равных шансов для достижения социального успеха. Утрата позитивного образа будущего, сопровождаемая падением уровня образования в стране, подтолкнула россиян к трансцендентным ценностям религии и мифа. Лакодин акцентирует мысль о том, что с уничтожением СССР российское общество лишилось не только социально ориентированного образа коммунистического будущего, но и мощного фундамента науки и образования.
Здесь абсолютно можно согласиться с автором в том, что научное мировоззрение в Советском Союзе утверждалось на разных уровнях: не только в рамках системы среднего и высшего образования, научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских бюро, но и на уровне научно-популярных изданий в печати («Вокруг света», «Горизонты техники», «Знание — сила», «Моделист-конструктор», «Наука и техника», «Техника — молодежи», «Юный натуралист», «Занимательная математика» и пр.), передач на телевидении («Очевидное — невероятное», «Человек. Земля. Вселенная», «Это вы можете», «Астрономия. Планеты» и пр.), кружков и секций в средних школах, дворцах пионеров и детско-юношеского творчества. Религия и церковь были отделены от государства, объявлялась «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды», магия и мистика, всевозможные эзотерические практики воспринимались как пережитки прошлого.
После перестройки научная элита подалась в эмиграцию, либо оказалась ввергнута в нищету, научные институты были закрыты, финансирование было сокращено. Реформы образования привели к развалу советской системы, переходу на тотальное тестирование в виде ОГЭ, ЕГЭ, ФОСов, что не позволяет молодежи вырабатывать критическое мышление, способность формировать собственное мнение, аргументированно и логично его излагать и отстаивать. Религия, мистицизм, магия, как и всегда в периоды кризисов, переходных эпох, снова сегодня обретают авторитет, новых последователей и поддержку власти. СМИ пестрят предложениями магических услуг в привлечении материального благополучия, карьерного роста, решении личных проблем, и массы россиян предпочитают обращаться именно к магам и экстрасенсам в надежде получить помощь здесь и сейчас, в посюстороннем мире, а не в потустороннем, как обещает религия. Магическое вмешательство выглядит гораздо привлекательнее, чем альтернатива изменения своей жизни честным трудом, используя все свои знания, умения и навыки. При отсутствии сформированного самостоятельного критического мышления оккультизм и магия легко овладевают сознанием современных россиян, продолжают расцветать и приобретать все более изощренные формы.
В последнее время государство обращает внимание на поддержку науки, но многие научные школы, методики оказались утрачены, школьное и вузовское образование остается во власти тотального тестирования. «Архаизация — процесс упрощения культурной системы, деградации ее до примитивного состояния. Этот процесс запускается в кризисных состояниях общества, находящегося в точке бифуркации, и достигает разных степеней глубины в зависимости от глубины самого кризиса, хаоса неравновесности» [4, c. 23–31].
Рассуждения в интернет-пространстве, далекие от методологического анализа, грешат желанием привлечь внимание, увеличить число своих подписчиков и этим объясняется их агрессивный тон, безапелляционные выводы, с которыми аудитория соглашается, поддаваясь эмоциональному воздействию.
Аргументы приводятся также в пространстве социально-экономической публицистики, здесь можно назвать серьезные исследования А. Г. Вишневского «Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР» (2010), О. В. Нечипоренко о натурализации хозяйств вследствие реформ — «Натуральная экономика и редистри-бутивная функция государства» (2001), В. Н. Титова о неформальной экономике в России, У. Г. Николаевой «Грозит ли России новое Средневековье» (2016) и другие, свидетельствующие о тревоге, вызываемой процессами архаизации, набирающими силу в современной России. Экономисты обращают внимание на сложность осуществления модернизационных преобразований вследствие сырьевого и ресурсного характера экономики.
Политологи в своем анализе трансформаций современного российского государства подчеркивают клановый характер политических элит, рецепцию идеи «отцовства» [6, c. 68–79], отсутствие подлинно демократического содержания, что они считают самым важным показателем модернизационных тенденций. Так, описывая государства на территории бывшего СССР, конституционно принявшие полупрезидентскую модель государственного устройства (Туркменистан, Белоруссия, Россия, Казахстан, Азербайджан и др.), М. А. Краснов признает, что несмотря на официально провозглашенные принципы демократии, в том числе принцип разделения властей, в этих странах можно видеть совершенно патриархальное отношение к главам государств — от почти религиозного до ненависти [6, c. 76]. Традиционные, архаичные установки политических элит России и ее регионов заставляют политологов говорить о «взрывающейся архаичности» [3].
О процессе развития «нового феодализма» в регионах пишут философы Башкортостана Абдрахманов, Буранчин и Демичев в книге «Архаизация российских регионов как социальная проблема». Авторы, осуществляя анализ происходивших в России конфликтов на пути перестройки, модернизации и тех архаических форм, к которым стихийно обратился российский социум в данных условиях, утверждают, что архаизация в данном случае не означает «возвращения к корням, активизации традиционных ценностей, консерватизма, былых человеческих связей. Это нездоровый ренессанс семьи, религии, общины и братства. Скорее, люди в панике пытаются создать “ костыль ” , включающий в себя самые случайные элементы прошлого и современного» [1]. В качестве примера снова называются усиление клановости, сращение власти с криминалитетом и радикализация религиозной жизни. В то же время авторы призывают учесть силу архаики и встроить ее представления, ценности, идеалы в идею сильного социального государства.
В. Иноземцев в своей публикации «План “Крепостные”» пишет о правомерности введения в оборот термина «новое Средневековье» для характеристики происходящего в современной России, которое «очень напоминает возвращение в прошлое, причем во многих аспектах» [5]. Политолог пишет о формировании в стране наследственной правящей элиты (в системе государственного управления и в бизнес-структурах) и появлении «нового дворянства» в лице касты силовиков. В основе «нового российского средневековья» лежит экономика рентного типа, как утверждает автор, при которой несменяемый глава государства жалует слуг деньгами, собственностью, монополиями. Средневековый характер государства подчеркивается, пишет Иноземцев, его сырьевой экономикой, особым вниманием к демографической ситуации (причем обращается внимание на умножение числа подданных, а не на качество человеческого капитала, креативные возможности населения), к увеличению территорий. Вместо понимания нации как гражданской или исторической общности происходит кристаллизация идеи абсолютного доминирования государственной власти.
О мифологизации общественного сознания обстоятельно пишет А. В. Костина, солидаризуясь с культурологами, настаивающими на актуализации в современном обществе культурных программ прошлого, соответствующих не только доинду-стриальным обществам, но подчас и догосударственным с возрождением языческих представлений о мире и родстве человека с ним, мифологических дихотомий добра и зла, внешних и внутренних врагов (Булдаков В. П. Революция, насилие и архаизация массового сознания в Гражданской войне: Провинциальная специфика; Янов А. Л. Патриотизм и национализм в России; Жамсаев М. Б., Чагду-рова Э. Д. Архаизация современного топоса России и др.). Активно происходит распространение традиционных представлений о «нормальном» и «аномальном». Нормально быть человеком с традиционной сексуальной ориентацией, придерживаться патриархальных представлений о долге мужчины и женщины в семейных отношениях, быть религиозным и жить по канонам религиозной общины, чтить религиозные святыни и ненормальны иные выборы.
Все названные исследования ограничиваются описанием различных процессов архаизации в постсоветской России, констатируя сам факт их реализации. Из их числа можно выделить исследования А. С. Ахиезера, ставившего целью выработку методологии изучения архаизации. Мыслитель отмечает, что данный процесс, являясь определенной формой регресса, выступает попыткой найти опору для выживания в тех культурных феноменах, которые утратили свой авторитет и ценность. Представители научной школы философа пишут о волнах архаизации, прошедших только в ХХ в. в России, и об огромном энергетическом потенциале архаизации, заключенном в массе ее носителей, о ее способности наполнять своим содержанием новые модернизационные формы [7]. Реформы бессильны, если общество к ним не готово, даже усилия государства здесь оказываются бесполезными. В таких обстоятельствах даже государство, выступая против архаизации, способно само превратиться в его орудие [10]. Известный философ культуры И. Г. Яковенко пишет, что архаическая культура обусловлена жесткими структурами, «блокирующими расширенное воспроизводство исходного универсума» [15, c. 68], и она создает тип человека, воссоздающего комфортную ему среду обитания, лишенную пугающей сложности.
В. Г. Федотова — философ и культуролог, рассматривает данный феномен как ответ на разрушение привычных форм жизни, когда социум не просто возрождает успешные в прошлом сценарии адаптации, но и ищет другие формы будущих трансформаций [13, c. 139]. Западный вариант модернизации в видении философии постмодерна вовсе не является единственным путем развития, а лишь одним из многих, «архаика — это та составляющая реальных процессов преобразований, которую нужно не только учитывать, но и использовать саму изменчивость ее по сравнению с прежними условиями существования» [12, c. 90–93].
Ч. К. Ламажаа подчеркивает в своих работах как положительные стороны архаики, кроющиеся в силе, стабильности, надежности ее стратегий, так и деструктивные стороны, то есть рассматривает данный феномен диалектически изменчивым, неоднозначным, требующим всестороннего анализа [9, c. 36].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что феномен архаизации в современном социально-философском дискурсе вызывает огромный интерес исследователей, что доказывает его неоднозначность, сложность и многогранность. Невозможно дать четкое определение и характеристику происходящих в российском социуме, в духовной культуре, в государственных структурах трансформаций, но ясно одно — необходимо грамотно использовать огромные ресурсы архаики, не отказываясь от опыта прошлых эпох и поколений, а идти вперед по пути современных изменений, опираясь одновременно на ценности архаики и модерна.