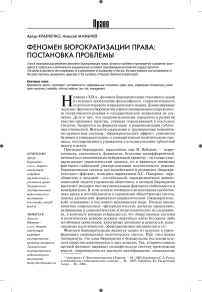Феномен бюрократизации права: постановка проблемы
Автор: Кравченко Артур Георгиевич, Мамычев Алексей Юрьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению феномена бюрократизации права, основных проблем и противоречий в развитии госаппарата в глобальных и региональных (национальных) условиях трансформации российской государственности.
Бюрократия, власть, госаппарат, нестабильность, неформальные отношения, право, риск, управление
Короткий адрес: https://sciup.org/170165249
IDR: 170165249
Текст научной статьи Феномен бюрократизации права: постановка проблемы
КРАВЧЕНКО
Артур
МАМЫЧЕВ Алексей
Н ачиная с XIX в., феномен бюрократизации становится одной из ведущих проблематик философского, социологического, политологического и юридического знания. Доминирующее значение феномена бюрократии в функционировании современного политического режима и государственного управления не случайно. Дело в том, что модернизационная парадигма в развитии властно-правовых практик, ставшая определяющей в последнее столетие, базируется на формализации и рационализации публичных отношений. Вытеснив сакральные и традиционные нормативно-ценностные системы, «бюрократический эффект» становится базовым в универсализации и стандартизации политического процесса, государственного управления и в осуществлении публичной власти в целом.
Признаки бюрократии, выделенные еще М. Вебером, – иерархичность, системность, формализм, безлично-индифферентный, ценностно и эмоционально нейтральный характер – не только стандартизируют управленческий процесс, но и являются значимым фактором глобальной универсализации политического режима. Управленческая система под воздействием и развитием «бюрократического эффекта», пользуясь выражением А.С. Панарина, «приобщается» к западной – нестабильной, сверхдинамичной цивилизационной модели управления обществом, в которой бюрократия выступает ведущим институциональным фактором стабильности и консерватизма. В этом аспекте очевидна и актуализация проблематики риска и нестабильности в управлении общественных систем, поиска адекватной формально-управленческой (бюрократической) «прививки» в постоянно меняющемся мире. Отсюда вполне понятны современные «футурологические догматы мышления», развиваемые в социологических и политологических исследованиях, в контексте которых утверждается, что общественные системы и политические режимы должны «научиться жить» без каких-либо устойчивых ориентиров, культурных доминант и ценностей, национальных идентичностей, общепризнанных авторитетов и т.п.1
Феномен бюрократизации является одним из ведущих в трансформации современных политических систем. При этом важно подчеркнуть, что сама бюрократия в большинстве исследовательских проектов анализируется в двух аспектах. Так, в первом смысле данный феномен выражает специфическую систему организации власти, опирающуюся на высокую квалификацию, специальные знания и умения реализующих ее лиц, а также на особую систематику формальных процедур и функциональных отношений. Ж. Эллюль и М. Крозье называли это властью экспертов (в традиционном формате – технократией или функциональной иерархической властью), которая сводит значение органов представительной демократии исключительно к одобрению решений, подготовленных экспертами или группами, оказывающими лоббистское давление. При этом в качестве главных факторов функционирования бюрократии рассматриваются компетентность, эффективность, неукоснительное следование инструкциям, замещающие иные цели и приоритеты.
Например, трактуя современное государство, Ж. Эллюль отмечает, что оно «состоит из двух противоречивых элементов: с одной стороны, политического персонала, комитетов, советов; а с другой – административного персонала в различных бюро, различия между которыми, как ни странно, становятся все менее и менее отчетливыми». В то же время функционирующий административный персонал «пронизывает все государство», но слабо трансформируется и мало контролируется. Действительная власть администрации становится силой общественной стабилизации и развития (Д. Шумпетер).
Во втором смысле бюрократия трактуется в качестве специфической властной формы, соответствующих методов и технологий ее реализации, а также системы отношений, направленных на удержание власти за счет применения доступных ресурсов и средств. При этом сам факт замещения какой-либо «бюрократической позиции» во властно-управленческой иерархии сообщает субъекту властные полномочия, ориентирует на определенный стиль поведения и мышления, включает его в процесс сохранения и воспроизводства «бюрократической традиции».
С учетом сказанного, в общем смысле феномен бюрократизации можно рассматривать в качестве формирования абстрактно-рациональных и формальных процедур, приспосабливающих общественное взаимодействие к достижению каких-либо желаемых результатов, а также стабилизации функциональной иерархической власти и ее воспроизводства в будущем.
В свою очередь, С.А. Денисов под бюрократизацией понимает процесс необос- нованного присвоения бюрократическим классом публичной власти, замещения народной воли интересами государственного аппарата1. В этом плане, по мнению В.А. Лоскутова, право, государственный механизм выступают формой закрепления и реализации «бюрократического интереса», интересов номенклатуры либо корпоративных бюрократических групп. Другими словами, «право и закон стоят на службе бюрократии»2.
Важно подчеркнуть, что данный процесс может развиваться в нормальном режиме, т.е. реализовывать национальные интересы (интегрированные и гармонизированные интересы личности, общества, государства), а может, соответственно, в дисфункциональном режиме, т.е. реализовывать, прежде всего, интересы узкой группы, функциональной иерархической властной системы. Данные особенности бюрократизации позволяют говорить об ее «изначальной амбивалентности», то есть способности не только осуществлять нужные государству и обществу социальные функции, но и тормозить развитие многих общественных отношений. В этом аспекте бюрократизация может вести к искажению режима законности и правопорядка, активизировать развитие неформального и неправового пространства, теневых форм властного взаимодействия, блокировать развитие институтов гражданского общества и социально-правового контроля за функционированием механизма государства.
Кроме того, часто термин «бюрократизация» используется как характеристика необоснованной формализации процедурных, процессуальных и материальных правовых предписаний. Скажем, примером бюрократизации могут быть чрезмерные требования к документообороту и оформлению отчетности, которые зачастую ставятся выше реальных научных, управленческих, экономических и иных дости-жений3. В настоящее время набирающие развитие интерактивные формы властноправового взаимодействия и электронные технологии оказания государственных услуг пока лишь виртуализируют процесс моментального реагирования власти на запросы населения, формируют иллюзию упрощения административных процедур, активного участия граждан, организаций и их контроля за функционированием административного аппарата.
Если мы говорим о бюрократизации в позитивном, веберовском понимании рациональной бюрократии, то под ней следует понимать не что иное как профессионализацию права. С одной стороны, профессионализация правовой системы создает удобства правоприменения, делает нормативное предписание более точным и адаптированным к разнообразию жизненных ситуаций. Но с другой стороны, профессионализируясь, правовые нормы все более удаляются от иных социальных регуляторов не только по форме, но и по содержанию. Таким образом, профессиональный характер права отчуждает его от общества, делает его понимание доступным только для лиц, имеющих специальное юридическое образование и соответствующие навыки.
Очевидно, что указанные выше проблемы бюрократизации права обусловливают эволюцию правовых систем и в противоположном направлении, которое выражается в развитии неформального, а также частного, договорного права. В частности, Н. Рулан пишет о том, что «существует много разновидностей неофициального права, которые регулируют процессы, целиком или частично находящиеся вне контроля государства, но о них учебники права умалчивают»1. Неофициальное право возникает как ответ на процесс обюрокрачивания позитивного права. Оно обеспечивает трудовую, временную и экономическую экономию субъектам, вступающим в правоотношения.
Формы бюрократизации права могут быть различными и включать в себя не только прямое отражение в позитивных нормах права интересов бюрократии, но и опосредованное – через усложнение нормативных предписаний, создание условий, способствующих обращению субъектов правоотношения к коррупционных схемам взаимодействия. Такое отягощение правовой системы, по мнению
С.А. Денисова, вызвано целенаправленной трансформацией бюрократической элитой системы законодательства с целью поставить под свой контроль процесс правотворчества.
Обобщая сказанное, следует отметить, что современное конструирование закона, его чрезмерное усложнение в содержательном смысле и объеме, то есть бюрократизация (профессионализация) права, как и системы действующего законодательства и правоприменения, порождает серьезный конфликт между обществом и государством, национальными и корпоративными интересами и целями. Именно бюрократизация права во всех его смыслах способствует отсутствию понимания человеком законов, знание которых вменено ему в обязанность государством.
Мы считаем неоправданными интеллектуальные изыскания, связанные с формулированием универсальных закономерностей модернизации бюрократического аппарата как формально-абстрактного фактора стабилизации в рискогенной и нестабильной социальной среде. В этом смысле, с учетом современных вызовов и тенденций, обращение современной юриспруденции к опыту консервативноправового моделирования процесса развития и оптимизации национального госаппарата более уместно. Представляется, что все социальные явления и процессы, тем более закономерности их развития и функционирования, специфичны и действуют в контексте определенного пространства и времени. Не существует абсолютно одинаковых государственно-правовых закономерностей, выражающих однотипность и регулярность политико-правовых явлений и процессов. Можно лишь говорить о схожести в развитии тех или иных правовых и политических систем.
Именно познание специфических национально-культурных закономерностей развития права и государства позволяет отразить «сопротивляемость, готовность национального материала (бытия)» к тем или иным политико-правовым заимствованиям. Поэтому если и говорить о глобальных (выражающих наибольшую степень общности) государственно-правовых закономерностях, то только лишь в контексте определенного государства, права, конкретных правовой и политической систем.