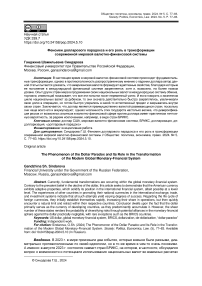Феномен долларового парадокса и его роль в трансформации современной мировой валютно-финансовой системы
Автор: Синдарова Г.Ш.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время в мировой валютно-финансовой системе происходят фундаментальные трансформации, однако в противоположность распространенному мнению о падении доллара автор данной статьи пытается доказать, что американская валюта формирует адаптивные свойства, благодаря которым ее положение в международной финансовой системе закрепляется, хотя и, возможно, на более низком уровне. Опыт других стран мира в продвижении своих национальных валют в международную систему обмена, торговли, инвестиций показывает, что все эти попытки носят переменный успех. И если говорить о жизненном цикле национальных валют за рубежом, то они сначала действительно быстро закреплялись, увеличивали свою долю в операциях, но потом быстро упирались в какой-то естественный предел и закрывались внутри своих стран. Заключается, что доллар является преимущественно валютой развивающихся стран, поскольку они чаще всего его и аккумулируют, однако численность этих государств настолько велика, что диверсификация рисков от возможных альянсов в валютно-финансовой сфере против доллара имеет практически ничтожную вероятность, за редким исключением, например, в виде стран БРИКС.
Доллар сша, мировая валютно-финансовая система, брикс, долларизация, дедолларизация, «долларовый парадокс»
Короткий адрес: https://sciup.org/149145508
IDR: 149145508 | УДК: 339.7 | DOI: 10.24158/pep.2024.5.10
Текст научной статьи Феномен долларового парадокса и его роль в трансформации современной мировой валютно-финансовой системы
вплоть до перспектив введения коллективной валюты стран БРИКС. Участники саммита утверждали, что это позволит дедолларизировать экономику государств, создаст более справедливую мировую валютно-финансовую систему (МВФС), появятся новые центры, и в целом страны БРИКС и дружественные по отношению к ним государства выиграют от этого. Вопреки этому валютному патриотизму образовался совершенно противоположный полюс в непосредственной территориальной близости от одного из инициаторов дедолларизации – Бразилии – Аргентина. Здесь в ноябре 2023 г. на президентских выборах победил кандидат, одним из пунктов экономической программы которого являлась радикальная реформа национальной денежной системы. Он планировал ликвидировать Центральный банк и ввести вместо национальной валюты доллар США. За последние 40 лет правая партия перонистов не достигла особо положительных результатов со своей политикой. Аргентина несколько раз объявляла дефолт по внешнему долгу. Получается, что народ желает преобразований, видит тупиковое развитие по нынешней траектории, поддерживает в отличие от Бразилии и других стран БРИКС политику продвижения национальных валют и фактически требует долларизации.
В связи с этим при подготовке данной статьи мы исходили из гипотезы о том, что, несмотря на мнение некоторых экономистов и политиков об утрате долларом своей позиции в мире как ведущей ключевой валюты1, существуют тенденции развития, которые, напротив, говорят о его стабилизации в текущих условиях турбулентности на мировых финансовых рынках и напряженности в геоэкономике и геополитике, что позволяет говорить о феномене долларового парадокса.
В ходе исследования нами использовался метод диалектического подхода к изучению явлений, процессов и механизмов в современной МВФС, которые проявляются в том, что накопление определенных противоречий противоборствующих сил в сфере валютных отношений ведет к трансформации и слому экономических систем и замене их на новые. Использование метода дедукции позволяет из общих представлений о роли доллара в МВФС получить частный случай для теории и практики, который формулируется в этой статье как долларовый парадокс. С точки зрения философии науки под парадоксом следует понимать явление в экономике, которое формируется вопреки стереотипам и традиционным представлениям о механизме или процессе в жизни общества (Афонцев, 2014: 126).
Цель исследования – проанализировать динамику изменения роли доллара в международном обмене с позиции его вовлеченности в мировое движение капитала, ликвидность, состав золотовалютных резервов.
Практическая значимость результатов настоящей работы проявляется в том, что нами сформулировано понятие долларового парадокса, который состоит в том, что вопреки ожиданиям утраты долларом роли гегемона, его позиции укрепляются вследствие роста неопределенности и валютно-финансовых рисков в развивающихся странах.
Значение основных положений нашего исследования для теории состоит в том, что феномен долларового парадокса обогащает знания в области международных валютных отношений.
В ХIII в. математик Фибоначчи обратил внимание на то, что все явления, процессы в природе развиваются на уровне определенных жестких линий, которые поддаются математическому вычислению, при этом развитие данного явления может сопровождаться переходом с одного уровня на другой, при котором жизнь его продолжается, закрепляется, фиксируется в пространстве и во времени. Распространяя этот метод на международные валютные отношения мы допускаем, что роль доллара действительно нивелируется в последнее время, но это проявляется в его закреплении на более низком уровне значимости для МВФС, что обеспечивает пролонгацию жизни доллара в долгосрочной перспективе.
Одним из первых экономистов, который обратил внимание на парадоксальность устойчивости денежной единицы вопреки традиционным представлениям о том, что надежная валюта должна быть обязательно подкреплена каким-нибудь ценным товаром, например, золотом, был Георг Зиммель. В своей книге «Философия денег» (Simmel, 2004) он описал ситуацию, с которой столкнулась средневековая денежная система в Турции. В это время там параллельно использовались две национальные денежные единицы. Одна из них, как пишет Г. Зиммель, была золотой, а другая – чеканилась из недрагоценных металлов, была ничем не подкреплена в виде обеспечения, но пользовалась большим доверием среди населения, потому что на ее аверсе был изображен турецкий султан. Последнее позволяет говорить о некоторой парадоксальности силы доверия, покупательной способности той или иной валюты и в наши дни. Именно такая ситуация и сложилась сегодня в МВФС, поскольку ключевая ее единица – доллар, который ничем не обеспечен, продолжает пользоваться большим доверием, чем какая-либо другая валюта в мире (Simmel, 2004).
Обсуждения и результаты . В связи с этим новым для теории мировой экономики является результат представленной статьи, в соответствии с которым сформулирован «долларовый парадокс». Его суть заключается в том, что вопреки ожиданиям несостоятельности и неспособности США выполнять свои долговые обязательства в рамках военно-политических блоков сила доллара и его влияние на страны мира не ослабевают с течением времени, а усиливаются путем углубления и проникновения его во все сферы деятельности международного бизнеса, торговли, финансов (Ефременко, 2009).
Это углубление и усиление доллара происходит постепенно. В середине XX в. его использование жестко ограничивалось и регламентировалось, например, в рамках плана Маршалла, когда США кредитовали Европу. Достаточно длительное время в 1960–70-е гг. Америка препятствовала масштабному распространению своей национальной валюты в мире (иначе, если они бы стремились к этому, то не сложился бы мировой евро-долларовый рынок, который возник, собственно, как реакция на нежелание США, чтобы другие страны более широко использовали доллар в своих целях, тем самым наращивая внешний долг США). В 1970-е гг. после целого ряда нефтяных кризисов цена на «черное золото» резко возросла, и страны-экспортеры (ОПЕК) стали накапливать большие резервы в долларах США. Они переводили их на счета в банки Европы, тем самым формируя евродолларовый рынок. Национальная валюта США стала настолько ликвидной, что самостоятельно уже могла обеспечить потребности любого мегасубъекта в объемном кредите, то есть США как эмитент доллара был не нужен, следовательно, и сами ограничения становились бессмысленными. Доллар без участия США и их Центрального банка работал во всем мире как глобальный товар и эквивалент, в котором выражалась их стоимость (Андронова, 2016: 80).
Деколонизация и обретение независимости многими странами в мире создали ситуацию, когда у каждого государства появился собственный центральный банк, своя национальная валюта. Молодые страны Африки, Азии часто были коррумпированными, а институты власти в них – слабыми, отсюда возникла проблема гиперинфляции, невозможности накопить на старость в национальной валюте и недоверие к собственному правительству, что стимулировало долларизацию общественных и экономических отношений. Все субъекты в экономике развивающихся стран (домохозяйства, производящие фирмы, само государство) создавали резервы в долларах. Такой процесс и лег в основу долларизации мировой экономики.
После глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. снизились темпы экономического роста в развитых странах, многие же развивающиеся государства демонстрировали высокие темпы роста. Особенно выиграли страны, богатые ресурсами, их национальные валюты укреплялись, и некоторые из них стали высказываться о необходимости реформирования мировой экономики путем замещения доллара во внутреннем обмене на национальную валюту.
Несмотря на то, что многие государства, например, входящие в БРИКС, продвигают идею дедолларизации и сегодня, на практике видно, что гегемония национальной валюты США в мировой экономике продолжает сохраняться. Развивающиеся страны накапливают доллары, поскольку эти денежные знаки относятся к одним из самых ликвидных международных средств обмена, инвестиций, резервирования. Долларовые вклады приносят высокий процентный доход, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) резко увеличила ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Большую прибыль дают вложения в американские казначейские облигации, процент по которым превысил 5 % в октябре 2023 г. Доллар продолжает оставаться необходимостью и панацеей для развивающихся стран как средство хеджирования валютных и финансовых рисков. Он является своего рода индикатором страха. Развивающиеся страны боятся потерять доллар и резервы в нем, потому что тогда у них останется своя нестабильная национальная валюта, которую невыгодно накапливать, так как она часто обесценивается из-за всякого рода финансовой турбулентности на мировых рынках. Также кредиты в национальной валюте в этих странах значительно дороже, потому что коммерческие банки этих государств очень малы в размерах, не умеют работать по низкой процентной ставке и, следовательно, не могут составить конкуренцию транснациональным банкам (Ефременко, 2009: 42).
О степени долларизации мировой экономики позволяют судить следующие индикаторы базы данных SWIFT. По данным на сентябрь 2023 г., около 58 % мировой торговли, 89 % всех денежных переводов производились также в долларах. Национальная валюта США участвует в более чем 89 % всех валютно-обменных операций. Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 46,46 %1.
До введения евро доля доллара в мировой торговле составляла более 80 %. Это, однако, не означает потери долларом статуса ключевой валюты, поскольку сокращение произошло в основном за счет регионализации в Европе и ликвидации валют нынешних стран зоны евро, которые приняли единую валюту2.
Таким образом, долларизация мировой экономики продолжает оставаться актуальной проблемой, и наиболее остро она стоит в развивающихся странах. Государства – члены Евросоюза, Япония не страдают этим синдромом, поскольку сами имеют стабильные твердые валюты.
Следует отметить также, что страны с формирующимися финансовыми рынками вносят наибольший вклад в долларизацию мировой экономики, так как они, продавая свою продукцию за рубеж, получают доллары и стерилизуют их в национальных золотовалютных резервах. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры, которые особенно важны при анализе степени долларизации мировой экономики:
во-первых, в период холодной войны СССР и многие другие страны мира требовали, чтобы за их продукцию на внешнем рынке платили в долларах;
во-вторых, официальная цена барреля нефти устанавливается в долларах; наконец, позиции евро после его эмиссии в 2002 г. практически не изменились, его использование ограничивается внутрирегиональной торговлей стран Евросоюза.
В результате этих факторов усиливается долларизация мировой экономики и отдельных стран мира. Это происходит потому, что эмиссия национальной валюты США постоянно растет, спрос на долларовые облигации и вклады – также увеличивается. Следовательно, с количественной точки зрениядолларовая масса становится все больше, и за счет только эффекта такой экспансии сама эта денежная единица вытесняет облигации и вклады, выраженные в прочих валютах.
Долларизация экономики проявляется еще в том, что национальная валюта США, как правило, по умолчанию является валютой выбора при заключении международного контракта. Доллар также всегда был выгодным средством обмена, поскольку со времен Бреттон-Вудской конференции при выставлении счетов в долларах они не облагались таможенными пошлинами и прочими сборами. Стороны внешнеторговой сделки могут расплачиваться собственной валютой или валютой своего делового партнера, а также в сторонней валюте, чаще всего в долларе. Для такой развивающейся страны, как Бразилия, имеющей слабую национальную валюту, вряд ли выгодно выставлять счета в ней или в аргентинских песо. И это тем более справедливо для фьючерсных контрактов, где валютный риск со сроком погашения намного больше, если счет выставлен в слабой валюте; совсем иная ситуация складывается, когда та же сделка заключается в долларах или в евро, поскольку это позволяет снизить валютные риски и прочие трансакционные издержки. Исключение может составлять Россия, которой иногда не остается другого выбора, как пользоваться валютой своего контрагента, например, Китая, так как она находится в условиях санкций, что исключает альтернативные возможности расчетов.
Президент Бразилии Лула да Силва на саммите G20 в Париже в июне 2022 г., посвященном вопросам принятия нового международного финансового соглашения об инвестициях в «зеленую» трансформацию и преодоления проблемы глобального изменения климата, объявил о своем желании обсудить вопрос об использовании национальных валют или коллективной валюты во взаимных расчетах с главами других стран БРИКС. В своем выступлении президент Бразилии задался следующим вопросом: «Почему Бразилия и Аргентина торгуют в долларах, а не в национальных валютах»?3 Говоря об этом, он критически выступил против долларизации этих стран.
Если Бразилия желает торговать с Аргентиной в своей собственной валюте и/или в валюте своего партнера, ничто не мешает ей это сделать, поскольку страна всегда может выбрать свою валюту для выставления счетов, если противоположная торговая сторона ее примет, как в случае Китая и России, согласившихся по взаимному договору принимать китайский юань в качестве расчетной валюты. Следуя этому примеру, президенты Бразилии и Китая, также за несколько недель до саммита в Париже подписали двустороннее соглашение об использовании их национальных валют в рамках взаимной торговли4.
В апреле 2022 г. президент Бразилии заявил, что выступает за создание в рамках БРИКС коллективной валюты по примеру евро1. Таким образом, он стал говорить не о параллельном хождении национальных валют стран БРИКС, а о коллективной денежной единице, что предполагало бы отказ от национальных валют и валютного суверенитета стран-членов (Булатов, 2019: 56).
Такая позиция, однако, не выдерживает критики, поскольку следует понимать, что единая валюта типа евро предполагает соответствие всех стран – членов интеграционного объединения критериям конвергенции, которые должны быть определены наднациональными нормативными документами, учитывая соответствующий уровень задолженности к внутреннему валовому продукту (ВВП), дефицит бюджета и уровень инфляции. Принимая эти критерии, страны-члены соглашаются на отказ от своей независимой денежно-кредитной политики в пользу единого центрального банка. Это приведет к тому, что национальные финансовые организации передадут ему большую часть своих функций, что вряд ли можно представить в условиях стран БРИКС, которые сильно отличаются по макроэкономическим показателям и критериям конвергенции.
Кроме того, центральные банки объединения обладают различной степенью независимости в своей политике. В Китае и России они находятся под сильным влиянием государства. В ЮАР, Индии и Бразилии конституции дают центральным банкам больше свободы действий от центрального аппарата власти (Катасонов, 2015: 114).
Устранение этих препятствий потребует длительного периода времени, поскольку конвергенция национальных валютных систем предполагает проведение глубоких реформ, направленных на гармонизацию стран БРИКС по основным макропоказателям. Кроме того, Китай реализует жесткую регулирующую политику, ограничивает использование юаня в международных сделках, поэтому сложно представить себе, даже в долгосрочном периоде, что он пойдет на полномасштабную либерализацию национального рынка денег, финансового, валютного, долгового рынков, опасаясь высоких рисков дестабилизации курса юаня по причине активной купли-продажи для спекулятивных целей.
Более 20 лет в западной экономической литературе обсуждается вопрос валютного демпинга со стороны Китая, который заключается в том, что для стимулирования экспорта (а Китай с 2009 г. является крупнейшим экспортером в мире) ему необходимо искусственное занижение стоимости китайских товаров за счет поддержания курса юаня к доллару на несправедливо низком уровне. Такая политика валютного курса обеспечивает стране международные конкурентные преимущества. Подобным же средством пользовалась Япония в 70-е гг. XX в., неоднократно занижая курс иены через серию девальваций, так что США были вынуждены защищать национальную автомобильную промышленность, заставив Японию принять по отношению к собственному экспорту добровольные ограничения, то есть пойти на снижение количества поставляемых автомобилей. Этот торговый конфликт между США и Японией был тогда быстро урегулирован, хотя последняя впоследствии обошла все эти ограничения за счет строительства непосредственно на территории США заводов по производству своих автомобилей, их не надо было везти на огромных контейнеровозах и преодолевать таможенные ограничения.
В 20-е гг. ХХI в. аналогичная торговая война разыгралась между США и Китаем. Разница заключается лишь в том, что Япония в свое время была добровольно готова выполнить условия США, а Китай предпочел конфронтацию и проявляет свой нонконформизм. В период эпидемии коронавируса и политики «нулевого ковида» до конца 2022 г., а также вследствие более гибкой кредитно-денежной политики за счет снижения ключевой ставки курс юаня вновь стал падать по отношению к доллару (тем более что сами США для борьбы с инфляцией с марта 2022 г. повысили ключевую ставку самым быстрым, скачкообразным путем за последние 40 лет, что укрепило доллар и усугубило проблему поддержания юаня на стабильном уровне). Более дешевый юань опять повысил конкурентоспособность китайских товаров на внешних рынках, и США вновь активизировали торговую войну с Китаем через огромные субсидии национальной промышленности и проведение покровительственной политики защиты американского производителя.
В связи с этим вряд ли Китай допустит более широкое обращение юаня в международных сделках, даже на уровне стран БРИКС. На саммите объединения в Йоханнесбурге (ЮАР) в августе 2023 г. было принято решение об увеличении числа членов. В ходе дискуссий обсуждался вопрос о введении коллективной валюты для стран БРИКС с целью организации товарообменных операций без участия доллара. Однако, как и в случае с китайским юанем, договориться о единой денежной системе, к тому же еще в расширенном составе БРИКС+, будет еще сложнее, поскольку коллективная валюта приведет к ликвидации национальных, лишая страны БРИКС независимости в кредитно-денежной политике.
Во время этого же саммита в Йоханнесбурге обсуждался дополнительно вопрос об использовании цифрового юаня для тех же целей взаимного обмена товарами, услугами без участия доллара. Но и этот вариант вряд ли можно назвать жизнеспособным, поскольку цифровой юань внедряется в систему денежного обращения в Китае посредством анклавного развития, то есть на отдельно взятых территориях, провинциях. Апробация пилотного проекта цифрового юаня носит затяжной характер и не демонстрирует выдающиеся преимущества по сравнению с электронными системами платежей, например, Alipay, или наличными деньгами.
В Financial Times была опубликована статья, в которой содержится обзор различных точек зрения, включая международные организации и некоторых лидеров ведущих стран мира, о перспективах американского доллара и других валют с учетом текущей ситуации1. В материале было отмечено, что появился новый феномен в МВФС, предполагающий сохранение и укрепление позиции США, согласно которому доллар стал использоваться как оружие в борьбе со странами-нонконформистами. Высказано предположение о том, что превращение доллара в оружие может подорвать авторитет доллара США и расколоть МВФС. Частным случаем использования национальной американской валюты как оружия является установление санкций к России, в рамках которых США заморозили валютные резервы, чем создали прецедент для многих других стран в плане потенциального использования доллара как оружия и в отношении них. Это заставило многие государства мира готовить ответные меры по адаптации к возможным действиям США по отношению к их резервам, как в случае с Россией. Если Америка будет продолжать использовать доллар как оружие в борьбе со многими другими странами-нонконформистами, последние будут вынуждены формировать альтернативные финансовые системы, результатом которых станет раскол МВФ на конкурирующие блоки.
Несмотря на то, что санкции против России не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика, а доллару неоднократно предсказывали крах, экспертами Financial Times сказано, что доллар США продолжит сохранять свою позицию2. Это укрепляет гипотезу, в соответствии с которой доллар вопреки всем ожиданиям продолжает укрепляться, демонстрируя тем самым определенный нами «долларовый парадокс». Последний утратит свое экономическое содержание только в том случае, если Россия и подавляющее большинство стран мира откажется от использования американской национальной валюты в качестве общемировой. В реальности же статистика не обнаруживает существенного снижения значимости доллара в международном обмене, и он по-прежнему остается валютой-гегемоном.
Заключение . То же самое может произойти и с китайским юанем, который сейчас, действительно, наращивает свою роль в МВФС, но ему, как и в предыдущих попытках других стран, удастся лишь достичь некоторого максимума, выйти на плато, закрепиться на нем, а потом его позиции начнут снижаться с последующей изоляцией внутри собственной национальной экономики или группы дружественных стран, в частности, БРИКС. В этом случае в долгосрочном периоде может снова проявить себя «долларовый парадокс» в репрезентируемом нами понимании.
Список литературы Феномен долларового парадокса и его роль в трансформации современной мировой валютно-финансовой системы
- Андронова Н.Э. Перестройка мировой финансовой архитектуры: место и роль России. М., 2016. 605 с. EDN: UBFUSF
- Афонцев С.А. Доминирование доллара: есть ли альтернативы? // Россия в глобальной политике. 2014. Т. 12, № 4. С. 120-129. EDN: TILTMP
- Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России. М., 2019. 374 с.
- Ефременко И.Н. Диагностика состояния и выявление тенденций развития мировой финансовой архитектуры // Финансы и кредит. 2009. № 14 (350). С. 31-42.
- Катасонов В.Ю. Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России. М., 2015. 283 с.
- Simmel G. The Philosophy of Money. L., 2004. 616 р. DOI: 10.4324/9780203481134