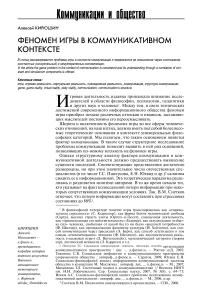Феномен игры в коммуникативном контексте
Автор: Кирюшин Алексей Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема игры в контексте коммуникации и предлагается ее осмысление через соотношение константных (консуетальных) и симулякративных составляющих.
Игра, игровая реальность, виртуальная реальность, повседневная реальность, коммуникация, структура коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/170166453
IDR: 170166453
Текст научной статьи Феномен игры в коммуникативном контексте
И гровая деятельность издавна привлекала внимание исследователей в области философии, психологии, педагогики и других наук о человеке1. Между тем, в свете технических достижений современного информационного общества феномен игры приобрел немало различных оттенков и нюансов, заставляю -щих мыслителей постоянно его переосмысливать.
Широта и включенность феномена игры во все сферы человече -ских отношений, на наш взгляд, должна иметь под собой более весо-мые теоретические основания в контексте универсальных фило софских категорий. Мы полагаем, что таким основанием является фактор коммуникации . В таком случае структурное исследование проблемы коммуникации позволит выявить в ней ряд оснований, позволяющих по новому взглянуть на феномен игры.
Однако структурному анализу фактора коммуникации и ком -муникативной деятельности должно предшествовать выявление сущности последней. Соответствующие представления достаточно разнородны, но при этом значительное число отечественных спе-циалистов (в их числе Г.С. Пшегусова, Е.Н. Юхвид и др.)2 склонны сводить ее к информационной. Эта теоретическая парадигма разде-лялась и разделяется многими авторами. В то же время немало тех, кто указывает на факт колоссальной потери информации при неко торых сопутствующих коммуникации условиях. Так, В.М. Снетков отмечает, что потери информации могут составлять при стрессовых состояниях до 80%3.
организации
Наиболее перспективным и открывающим широкий исследовательский простор мы считаем понимание сущности коммуникативной деятельности как процесса установления связи1, обеспечения всесторонних контактов субъекта с объектом. Информационная же деятельность выполняет задачу обеспечения общества разнообразными сведе ниями и тем самым снимает неопределенность, которая возникает при их недостаточности или избыточности.
Между тем, сущность игры и игровой реальности мы видим в рамках структуры коммуникации, которая, на наш взгляд, включает в себя три основных компонента.
Первым ее компонентом выступает повседневная (обычная), или консуеталь-ная, коммуникация. К ней следует относить привычное для нас массовое общение людей, технологические системы его обеспечения и т. п.
Вторым функциональным компонентом является симулякративная2 (некон-суетальная) коммуникация. Феномен симулякративности свое непосредственное выражение находит в виртуальной деятельности.
Сначала целесообразно рассмотреть возможность использования термина «симулякр». В силу ряда причин термин приобрел во многом негативное содержание, что не в последнюю очередь обусловлено теми коннотациями, которые он получил в постструктуралистской и постмодернистской философии. Так, Ж. Делез выдвинул задачу «низвержения платонизма», имея в виду в первую очередь проблему установления адекватных различий между самой вещью и ее образами, между оригиналом и копией, моделью и симулякром. Применяя весьма субъективистский метод, Делез стремится предельно отделить друг от друга подлинные копии реальности от симулякров. Приводимые им доводы порой не лишены оригинальности и изобретательности, однако позиция мыслителя все-таки выглядит шаткой. В качестве «доказательства» Делез и самого человека именует симулякром3. Ж. Бодрийяр также полагает, что симулякр не соотносится ни с какой реальностью, кроме своей собственной. Таким образом, симулякр рассматривается ими в качестве исключительно искусственной (негативной) сущности и выходит за границы оппозиции «подлинник – копия».
В действительности виртуальное – не есть нечто исключительно субъективное (мнимое, воображаемое, несуществующее). Мало того, виртуальная реальность, в отличие от всех других психических производных типа воображения, характеризуется тем, что человек воспринимает и переживает ее не как порождение своего собственного ума, а как объективную реальность4. В целом же здесь отсутствует четкое разделение объективного и субъективного, и различные содержания перетекают друг в друга, становясь неразличимыми.
Между тем, помимо гносеологических, существуют также аксиологические (социальные) причины: новые технологии, включая виртуальные, в обществе отчуждения не могут не быть также отчужденными, т.е. во многом социально негативными. Виртуальная реальность, как и любая иная, сама по себе не является чем-то сугубо отрицательным. Ее оценочный статус зависит от тех целей, для которых она используется.
Понятие симулякра, на наш взгляд, – обязательный и неотъемлемый элемент в общей системе виртуальной реальности. Но чем именно он здесь является? Или, по–другому, в каких традиционных философских категориях можно было бы его истолковать? По-видимому, симулякр следует рассматривать в качестве сущностной черты виртуальной деятельности, которая, будучи целостным явлением, включает в свою ткань также элементы консуетального бытия. Идея симулякра, на наш взгляд, позволяет выявить неограниченную пластичность виртуальной реальности (по отношению к объективной и виртуальным реальностям более высокого порядка), являющуюся ее неотъемлемым свойством и служащую основой для многообразия искусственных (технических, эстетических) и естественных проявлений.
Виртуальные процессы, как и вся коммуникативная деятельность, по своему содержанию субъект-объектны и осуществляются одновременно (параллельно) в двух своих формах – субъект-субъектной и объект-объектной. Так, с одной стороны, работая с компьютером, человек постоянно общается с самим собой: ведет внутренний диалог, проговаривает про себя и оценивает новые идеи, оценки, образы и т.д. С другой стороны, компьютер представляет собой системное техническое устройство, в котором различные его подсистемы обеспечивают единый, согласованный контакт с человеком или с другими компьютерами.
Симулятивная (внутриличностная или межличностная) виртуальная коммуникация, будучи по форме субъект-субъектной, в содержательном формате остается субъект-объектной; роль объекта здесь выполняет искусственный само-образ, созданный психикой человека, но воплощенный компьютером в техническую виртуальную реальность.
Третьим компонентом в структуре коммуникации выступает смешанная – консуетально-симулякративная – коммуникация, которая находит весьма зримое воплощение в факторе игры и игровой деятельности.
Для уточнения данного элемента коммуникации воспользуемся термином «ауг-ментированная реальность». Этот термин заимствован у В.С. Бабенко 1, который обозначил с его помощью особый, или «расширенный», вид реальности2.
Эталоном аугментированной коммуникации выступает игровая деятельность. Как известно, существует бесчисленное множество концептов, касающихся проблемы сущности, функций или способов классификации игр. В данной работе не ставится цель их критического или какого-либо иного анализа. Наша задача – обосновать коммуникативно-аугментированную природу игры.
Подлинная игра осуществляется в коллективе. Поэтому мы солидарны с теми исследователями, которые рассматривают игру как школу общения. В то же время реально возможны «чисто технические» игры без участия человека: например, чемпионат шахматных программ или футбольный матч среди роботов и т. п.
Коммуникативная специфика игры заключается в неразрывной связи в ее содержании феноменов консуетальности и симулякративности. Возможны также ситуации, когда в игровой деятельности доминирующей является симулякратив-ная составляющая, или, наоборот, когда доминирует реальность консуетального плана. Однако, если брать игровую деятельность в ее всеобщности, эти противоположности уравновешивают друг друга.
Всякая полноценная игра, с одной стороны, содержит в себе неустранимый элемент новизны, креативности, с другой – она никогда не покидает реальность нормативную (привычную). В игре обе эти стороны дополняют и взаимоо-бусловливают друг друга. Исследователи отмечают, что в игре людей наличествуют как отлет от действительности, так и проникновение в нее. В игре отсутствует воздействие на предметы, аналогичное, скажем, материально-практической деятельности, но вместе с тем все существенное в ней обладает статусом подлинной реальности (чувства, желания, замыслы). Так, в футбольном матче или шахматном турнире участники стремятся добиться реальной, а не виртуальной победы над соперником.
В рассматриваемой связи характерно противопоставление игры и труда. Не отрицая взаимосвязи между ними (свободный, творческий труд может быть игрой физических и интеллектуальных сил), исследователи все же указывают на то, что труд – это не игра, а игра – не труд. И хотя игровой элемент присущ буквально всем видам деятельности, но акцентированные игры характерны в первую очередь для сферы досуга, которая и предоставляет человеку максимум свободы.
Разумеется, свобода в игровой деятельности поставлена в более или менее жесткие рамки, поскольку в большинстве случаев опирается на определенные правила (устойчивые связи, отношения). Последние определяются либо самими играющими по образцу отношений в неигровой реальности, либо заранее устанавливаются местным, региональным или международным социумом. Специалисты отмечают, что игры, которые предполагают соревнование, могут перерасти в спортивные игры, где важен уже не только процесс игры, но и ее результат (выигрыш или проигрыш). Здесь проходит тонкая грань, за которой собственно игра переходит в спорт. В этом случае доминирующим мотивом становится уже не столько содержание игры, сколько ее результат. Игровое начало хотя и сохраняется, однако игра переходит в свою противоположность, где целью уже выступает выигрыш.
Итак, структура коммуникации трехмерна и включает в себя повседневную (консуетальную), виртуальную (симуль-ную) и игровую (аугментированную) деятельность. В таком случае анализ игры как формы аугментированной коммуникации предполагает ее осмысление через процесс установления консуетальной связи между субъектом и объективными аспектами действительности (предме -тами, приспособлениями (игровая площадка, мячи, биты и т.д.), условиями, правилами и другими участниками игровой деятельности), а также симулякративной связи между субъектом и самообразом в форме игровой реальности, возникающим и отражающим субъективное течение игры в его сознании и позволяющим посредством иммерсии вовлечь субъекта в виртуальную составляющую игры.
Однако отмеченные процессы установления связи не равновелики и могут отличаться в зависимости от используемых приспособлений игры. Так, игры, осуществляемые с помощью обычных средств игры – мячей, клюшек, бит, фигур, карт и т.п., используемые игроком по соответствующим правилам, инициируют как установление с ними консуетальных (повседневных, ординарных) связей, так и отражение в сознании субъекта соответствующего им самообраза той или иной игровой деятельности и погружение (иммерсию) в него (симулякративная коммуникация). В данном контексте в соотношении между симулякративным (виртуальным) и кон-суетальным каналами связи отдать предпочтение какому-нибудь одному трудно, поэтому, сравнивая, можно отметить их относительное равновесие. Преобладание одного элемента коммуникации над другим в общем случае не наблюдается: субъект игры (индивидуальной или коллективной), понимая условность и виртуальность игровой действительности, продолжает мыслить себя принадлежащим консуетальной реальности.
Использование компьютерных технологий коренным образом изменяет соотношение коммуникативных, а следовательно и иммерсионных характеристик консуетального и симулякративного каналов связи.
Таким образом, коммуникативный анализ игровой деятельности позволяет выявить в существующей отечественной и зарубежной литературе многообразие концепций и теорий, которые заимствуют виртуальные категории и механизмы и предоставляют перспективные возможности для эвристичной (аугментированной) репрезентации феномена игры и игровой реальности.