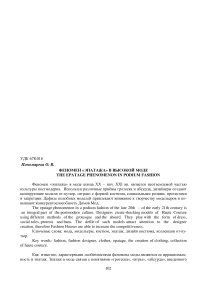Феномен "эпатажа" в высокой моде
Автор: Пономарева Оксана Викторовна
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Исследования молодых ученых
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
Феномен «эпатажа» в моде конца ХХ - нач. ХХI вв. является неотъемлемой частью культуры постмодерна. Используя различные приёмы гротеска и абсурда, дизайнеры создают шокирующие модели от-кутюр, «играя» с формой костюма, социальными ролями, протестами и запретами. Дефиле подобных моделей привлекают внимание к творчеству модельеров и повышают конкурентоспособность Домов Мод.
Мода, эпатаж, коллекции от-кутюр
Короткий адрес: https://sciup.org/170189352
IDR: 170189352 | УДК: 678.016
Текст научной статьи Феномен "эпатажа" в высокой моде
Как известно, характерными особенностями феномена моды являются ее иррациональность и эпатаж. Эпатаж в моде связан с понятиями «гротеска», «игры», «абсурда», введенного в ранг искусства. Эта нефункциональная одежда создаётся ради сиюминутного восхищения пораженных зрителей. Какова же цель многочасовой трудоемкой работы Кутюрье, если главное предназначение одежды - ее утилитарная функция - не будет реализована? Одна из версий - мода как искусство - нуждается в критическом взгляде зрителя, «жаждет изумить поголовно всех» [8, с. 17] (эстетический и культурно-исторический подход в теории моды). В связи с этим в музейной практике последних лет приобретают актуальность выставки не исторического, а современного костюма от-кутюр. Для чего самые дорогие и изысканные Дома мод нанимают скандальных и дерзких модельеров XXI века? В данном случае задействован экономический подход в моде, который трактует её «как эффективное средство расширения сбыта и форму рекламы» [8, с. 17]. Модная индустрия превратилась в одну из самых прибыльных отраслей и продолжает стремительно набирать обороты, изобретательно манипулируя желаниями потребителя, вовлекая его в эту игру, где правила задает вкус дизайнера, предлагающего все более изощренные и неожиданные новинки.
В конце XX - начале XXI вв. к проблемам моды и описанию «модных» образцов обратились многочисленные отечественные и зарубежные исследователи. Тема становится актуальной для кандидатских диссертаций и монографий. Рассматривая моду с социальной, психологической или искусствоведческой позиции, ученые выдвигают различные теории относительно ее феномена. Однако точка в данном вопросе до сих пор не поставлена, поскольку появление новых неожиданных коллекций современных модельеров заставляет исследователей продолжать поиск истинных тенденций.
Эпатаж (фр. epatage) - умышленно скандальная выходка или вызывающее, шокирующее поведение, противоречащие принятым в обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам, производимые с целью привлечения к себе внимания [11].
Рис. 1. Плоскостное и объемно-пространственное формообразование в женском костюме: Victor & Rolf, модель из коллекции осень-зима 2007 г; Мартин Маржиела, модель из коллекции весна 2009 г;
Агата Руиз де ла Прада, коллекция осень-зима 2009/2010 гг; Victor & Rolf, модель из коллекции весна 2010 г; Гарет Пью, модель из коллекции весна 2007 г; Егор Зайцев, модель из коллекции 2010 г..
С точки зрения маркетинга, эпатаж - это запланированное, экстраординарное, самодостаточное нарушение общепринятых норм за рамками традиционного восприятия, имеющее своей целью привлечение внимания к продукту или услуге и развитие восприятия продукта или услуги с точки зрения новаторства и уверенного превосходства над конкурирующими продуктами и услугами. Среди таких аттрактивных методов, как китч, провокация, сенсация или скандал, эпатаж выгодно выделяется формированием позитивных потоков информации [15]. Своеобразие современного этапа существования эпатажа заключается в его массовом распространении, в превращении эпатажа в устойчивую характеристику социальной жизни. С точки зрения структурной, эпатаж является следствием утраты идентификаций и проявляется как несоответствие поведения нормативным требованиям социальной среды, эпатаж - это поиск идентификации [12].
Эпатаж используется для привлечения внимания к имени (дизайнера), бренду, (историческому) событию, социальному или общественному мнению. Активно используется в качестве PR-технологии в современных условиях дизайн-конкурентной борьбы.
В дизайне одежды эпатаж – особое искусство, выявляющее вкус и художественный уровень модельера, его умение «приковывать» внимание зрителей и потенциальных покупателей к марке.
Провокационные попытки эпатажной подачи были предприняты ещё в 30-х годах ХХ века в работах советских и зарубежных авангардистов. Скьяпарелли предлагала своим современницам сюрреалистические модели (платье с лобстером, колье с имитацией насекомых, шляпку в форме туфли), составляя конкуренцию элегантной Шанель. Ларс Свендсен отмечает, что Скьяпарелли «была первым настоящим модельером от авангарда и пионером стратегии позднего авангарда в моде, а вернее, стратегии деконтекстуализации и реконтекстуализации объектов, смешения «высокого» и «низкого», использования неожиданных цветов и материалов» [9, с. 144]. В 1960-х гг. Пако Рабанн стал авангардистом «космического» стиля, создавая одежду из нетрадиционных материалов (металл, пластик и др.), использовал для воплощения своих образов голографические бумажные ленты и лазерные диски [7, с. 92].
Приемы эпатажа в Высокой моде в конце ХХ – начале XXI вв. можно разделить на несколько тематических групп: 1) формообразование в костюме характеризуется костюмами «плоскостного» типа (определение Затулий А. И.) или «аналитическим кубизмом» в одежде; трехмерными костюмами – объемно-пространственным моделированием; деконструктивизмом в одежде, связанным с нарушением пропорций и форм человеческого тела, нарушением масштабности в костюме – перечисленные художественные отклонения модельеры используют в моделировании костюмов для обоих полов; 2) социальный протест в костюме кутюрье используют для выражения своего личного отношения к какому-либо явлению или событию (политическому, экологическому и др.), нередко связан с табуированными темами (смерть, секс, насилие и т. д.) – также встречается и в женском, и в мужском костюме; 3) перверсии в моделировании объясняют феминизацию мужского костюма (внедрение элементов женского гардероба в мужской) и акцентирование эротических зон в женском костюме; 4) «апокалипсические мотивы» (определение Затулий А. И.) в оформлении головных уборов, макияжа или абсолютное нивелирование лица с помощью маски; 5) использование различных видов инвай-ронмента для демонстрации коллекций является одной из особенностей культуры постмодер- низма.

Рис. 2. Нарушение масштабности и деконструктивизм в одежде: Джон Гальяно, модель из коллекции 2005 г; Александр МакКуин, модель из коллекции «The Forgotten» осень-зима 2007/2008 гг; Рей Кавакубо, модель из коллекции “Comme des Garyons”, 1997 г.;Том Браун, модель из коллекции 03-2012 (зима 2012 г),
Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных характеристик в творчестве современных модельеров на примере коллекций конца ХХ – начала XXI вв.
Нарушение пропорций человеческого тела с помощью формообразования в костюме и нарушение масштабности используют Том Браун (коллекция осень-зима 2012/2013 гг.), Джон Гальяно (коллекция 2005 г.), Александр МаКуин (коллекция осень-зима 2007/2008 гг.). Деформацию или деконструкцию дизайнеры используют в своих коллекциях для придания моделям шокирующей эффектности (Рей Кавакубо, коллекция весна 2008). У Александра Мак-Куина этот приём превращает манекенщиц в экзотических насекомых, образ поддерживается прической, макияжем и обувью. Зрительное восприятие силуэтного совмещения плечевого или поясного изделия с головным убором, создающее массивную верхнюю часть костюма, также создает ощущение дисгармонии с человеческим телом (Александр Мак-Куин, коллекция 2009).
Яркими примерами деконструктивизма в одежде являются модельер Мартин Маржьела (коллекции в стиле гранж – «маргинальный шик»: полувер из армейских носков, трикотаж со спущенными петлями; одежда из альтернативных материалов – жилет из кусочков фаянса, скрепленных стальной проволокой), бельгийская авангардистка Энн Демелемеестер экспериментирует с идеями деконструктивизма, преподнося их с особой иронией: женские брюки она предполагает подвязывать толстой веревкой, грудь прикрывать связкой перьев известной ей одной домашней птицы, а на рукавах писать «правая рука», «левая рука».

Рис. 3. Эротическая акцентировка в женском костюме: Агата Руиз де ла Прада, модель из коллекции осень-зима 2009/2010 гг; Жан Поль Готье, модель из коллекции весна-лето 2007 г; Чарли Ле Минду, модель из коллекции весна 2011 г.
Социальный протест модельеры выражают через дизайн костюма или вообще отсутствие этого костюма: Джон Гальяно, Чарли Ле Минду, Жан Поль Готье, Francis Montesinos, Александр МакКуин, Jose Castro и др.
Причиной социального протеста в костюме может служить иная, отличная от общепринятой, система ценностей традиционной культуры; протест против социальной несправедливости; в Высокой моде встречаются и акции зоопротестов против убийства животных и мясоед-ства, например, в коллекции 2011 г. Чарли Ле Минду костюмы испачканы кровью, а дефиле проходит под визг свиньи. Так как «мода связана с основными социально-психологическими механизмами общения: внушением, заражением, убеждением, подражанием», она может манипулировать сознанием толпы, обращаясь к определенным социальным проблемам [14].
Перверсии в моделировании выражаются в отклонениях от нормы ношения одежды, принятой в европейском обществе. Зрительный образ подчеркивает диалектику современного мира, в котором и женщины, и мужчины могут «носить» костюм с противоположными половыми акцентами; в полном соответствии с терпимостью и плюрализмом культуры постмодернизма [2, с. 49].

Рис. 4. “Феминизация” мужского костюма (внедрение корсета и юбки): Жан Поль Готье, модель из коллекции 2010 г; Джон Гальяно, модель из коллекции осень-зима 2011 г;
Егор Зайцев, модель из коллекции 2009 г; Жан Поль Готье, модель из коллекции осень-зима 2011/2012; Рикардо Тиши, модель из коллекции от кутюр 2011/2012 гг.;
Рик Оуэнс, модель из коллекции весна-лето 2012 г.
Так, например, феминизация в мужском костюме проявляется в ношении корсетов и юбок (коллекции Жана Поля Готье, Джона Гальяно, Риккардо Тиши, Рика Оуэнса, Тома Брауна, Александра МакКуина). Жан Поль Готье еще в 1980 г. представил в дефиле мужской коллекции корсет и продолжает «неустанно пропагандировать мужскую юбку» [3, с. 430], в связи с чем авторы научного социокультурного исследования «Мода и гендер в эпоху постмодерна» Баранов Г. С., Родионова Д. Д. высказывают серьезные опасения, подчеркивая, что мужской пол «переживает в современных условиях глубокий и всесторонний социально-психологический кризис» [1, с. 49]. Однако обеспокоенность в данном случае должен вызывать не костюм, а скорее тенденция к андрогинности не только мужского тела, но и мужского поведения, как следствие – снятие ответственности и ослабление мужских качеств характера, что является уже социальной проблемой для современного общества. Авторы монографии «Мода и гендер в эпоху постмодерна» (2006 г.) отмечают следующие факты: «происходящие гендерные процессы, стимулируемые в том числе и модой, не могут иметь однозначной положительной оценки, ибо они многоаспектны» [1, с. 50].
Культура Высокой Моды неразрывно связана со скандалом, а сексуальная нетрадиционная ориентация дает возможность акцентировать скандальность ситуации в «чистом виде». Во-вторых, подчеркнутое обыгрывание сексуальных нетрадиционных ориентаций можно рассматривать как удачный маркетинговый ход, обеспечивающий внимание публики и повышающий объемы продаж Домов Моды [2, с. 47].
В женской одежде имеет место акцентирование эротических зон: сетки, каркасная одежда, расстегнутая одежда, одежда, предполагающая ношение с обнаженной грудью, одежда из полиэтилена (прозрачная), одежда-скульптура, одежда с цветными акцентировками на «половых» зонах. К этой тематической группе можно отнести коллекции Александра МакКуина, Агаты Руз де ла Прада, Чарли Ле Минду, Вивьен Вествуд, Жана Поля Готье, Виктора и Рольфа и др. Либидонозные элементы костюма, напрямую воздействующие на мужчину, во многих культурах общественным мнением осуждаются. Однако практически все модельеры активно эксплуатируют такие элементы костюма. Именно они придают костюму авангардность (если элемент нов), маргинальность (если вульгарен) и нуминозность (если элемент и необычен, и нов, и вульгарен одновременно) [2, с. 56].
Некоторые абстрактные головные уборы и украшения лица имеют «апокалипсические мотивы» – это болванки без лица от DNA (зима 2003 г.), «Живанши» (зима 1999 г.), лица за колючей проволокой от Zambo (весна 2002 г.), И. Мияке (зима 2004 г.), лица-гримасы страха, боли, смерти [2, с. 124]. Нивелирование лица (тканью, сеткой, капроном, волосами), в том числе экстремистского характера, также вызывает у зрителя шоковую заинтересованность (Мартин Маржиела, коллекция весна 2009, осень-зима 2011-2012 гг., Жан Поль Готье, коллекция весна-лето 2007 г., Юнья Ватанабэ, коллекция 2006 г., Генрик Вибсков, коллекция осень-зима 2010 г., Гарет Пью, коллекция весна 2007 г., Рей Кавакубо, коллекция весна 2009 г.). Шоу подобного рода превращают моделей в ходячие манекены «без лица» и акцентируют все внимание на костюме. В культуре конца ХХ-начала XXI вв. отчетливо обнаруживаются тенденции обезличивания, в данном контексте – это огромное количество одетых и обнаженных тел без лиц [2, с. 54].
Одежды, изображающие тело в большей или меньшей степени, имеют природу симулякров. Еще одним вариантом концептуализма в костюме является «костюм», нарисованный на теле [2, с. 120]. Дизайнер Katie Eary создает принты с костями и внутренними органами человека на соответствующих местах (коллекция весна 2010), изображения татуировок в качестве принтов использовал Жан Поль Готье в весенне-летней коллекции 2009 г., Маурицио Галанте «перекрашивает» лица и тела моделей в колорит костюмов коллекции. Пирсинг, татуировки, эрокез и их имитация дополняют авангардный характер моделей. Еще одним вариантом абстрактного макияжа можно считать нанесение следов насилия на открытые части тела моделей при представлении коллекций. Лужи крови на показе весенней коллекции Tsubi 2002 г., следы побоев на лицах моделей при представлении зимней коллекции «от кутюр» 2000 г. A.R.T. Wear, синяки и царапины у Venexiana (в зимней коллекции 2004 г.), Dress (в весенней коллекции 2004 г.), R. Cary Williams (в зимней коллекции 2004 г.) и др. дизайнеров; имитации ран – у M. Ecko в зимней коллекции 2004 г. и т.п. примеры служат свидетельствами того, что насилие входит в систему культурных кодов – синяки и ссадины воспринимаются с одобрением (становятся «модными» аксессуарами, как следы драк и знаки личного героизма) [2, с. 128].
В конце ХХ – начале XXI вв. Высокая Мода активно экспериментирует в области ин-вайронмента: показы коллекций проводятся на автостоянке, станции метро, в ночлежке Армии спасения (М. Маржиела), в бассейне (Т. Морсе), библиотеке (Obus), больнице (AF Vandervorst), цирке (А. Шаров), тюрьме (А. Мак-Куин) или на кладбище (А. Савадов). Замена традиционного подиума иной средой (или имитационное моделирование этой среды) отражает влияние на искусство так называемых модусов пространства [2, с. 126]. Эпатажная подача кол- лекции – площадка для демонстрации может стать боксерским рингом, тюрьмой, музеем и т. д.; может проходить по щиколотку в воде, дорожка подиума усыпана гравием; отсутствие манекенщиц вообще – одежда на манекенах, вешалках, стенах, окнах и т. д. (примерами служат дефиле Александра Мак-Куина, Жан Поля Готье, Иссея Мияке). Дирк Биккембергс превращает дефиле в «шоу инопланетных существ» [7, с. 146], проецируя фрагменты комиксов и видеоигр на экраны и тела манекенщиц. Вальтер ван Бейрендонк проводит показы своих моделей в стиле кибер-панк в необычных интерьерах – вокзал, метро, фабрика, свалка [7, с. 147]. Мартин Маржьела также предпочитает нестандартную обстановку демонстрации своих моделей: закрытые станции метро, заброшенные автостоянки, ночлежки, запущенный городской пустырь и т. д. Дизайнерская одежда из его коллекций демонстрировалась без помощи манекенщиц: она просто висит на плечиках, двигающихся по подиуму как по конвейерной ленте, и всё это сопровождалось текстовыми видеокомментариями [7, с. 148]. Дома Мод превращают показы новых коллекций в театрализованные представления и специализированные шоу, для которых костюм – лишь одна из составных частей выразительности, наряду с режиссурой, актерской работой моделей, дизайнерской постановочной работой и огромной работой mass-media [2, с. 59].
Использование в показах Ж.-П. Готье, В. Вествуд, А. Capellino трансвеститов «для демонстрации коллекций одежды и придания им особой экспрессии или шарма» [2, с. 48], также приглашаются не только темнокожие манекенщицы, но и люди преклонного возраста, умственно отсталые или инвалиды [2, с. 126].
В динамичной смене рекламных слайдов повседневности взгляд современного потребителя рассредоточивается и теряет ориентиры. Требуется огромное самообладание, чтобы сделать выбор действительно необходимой вещи, а не просто рекламного брэндового продукта. В связи со сложившейся ситуацией конкурентоспособность брэндовых марок значительно возросла за последнее время. Старые пиар-приемы, сложившиеся в конце ХХ – начале ХХI вв. перестают производить должное впечатление. Так возникает тенденция, характерная для постмодернистской эстетики – эпатаж, шокотерапия, антиискусство. Данные явления современной жизни – в СМИ, рекламе, Интернете, полиграфической продукции – заставляют останавливать взгляд, ужасаться или удивляться. Маркетинговый ход – одна из причин эпатажа в искусстве вообще и в Высокой моде в частности.
Второй причиной можно назвать создание костюмов Высокой моды как художественного акта, трансляции некоего образа, актуального для одежды как произведения искусства. В данном случае модельер скорее выступает как художник, и нередко такие «произведения» демонстрируются на музейных площадках, например, выставка Жана Поля Готье в Монреале (2011 г.), выставка Иссея Мияке «Видения тела: мода или невидимый корсет» (Киото, 1999 г.), «Issey Miyake Making Things» (1998/99 гг., Музей современного искусства фонда Картье в Париже), выставка Кристиана Диора в Париже. Философский аспект категорий «мода – искусство» рассмотрен на страницах книги Ларса Свендсена «Философия моды», автор подчеркивает «заметное увеличение количества «концептуальной одежды» в современном творчестве модельеров» [9, с. 136]. В связи с актуальностью данной проблематики Затулий А. И. подчеркивает, что «современное искусство (в том числе и авангардного костюма) требует высокоинтеллектуального потребителя, так как оно оперирует механизмами влияния на человека не только на уровне чувств, но и на уровне интеллекта» [2, с. 60].
Эпатажные модельеры: Александр Мак-Куин, Жан Поль Готье, Джон Гальяно, Иссей Мияке, Рей Кавакубо, Ёджи Ямамото, «Антверпенская шестерка» (Дирк Биккембергс, Вальтер Ван Бейрендонк, Дрис ван Саен, Энн Демелемеестер, Мартин Маржьела), Рикардо Тиши, Том Браун, Рик Оуэнс, Агата Руиз де ла Прада, Чарли Ле Минду, Пью Гарет, Егор Зайцев, Виктор и Рольф, Мартин Маржиела, Рей Кавакубо и др.
«Радикальная мода» – такое определение дает автор энциклопедии «Мода и стиль» В. А. Володин, характеризуя творчество перечисленных модельеров и отмечая, что данное явление «по своей сути ближе к искусству авангардистов», «часто приближается к перфомансу» [8,
-
с. 441]. Эпатажный подход к разработке моделей «срывает маски» с табуированных тем и социальных запретов, общепринятые нормы превращаются в тектонические и подвижные, а по-диумная «дорожка» становится трибуной для выражения отношения к самым актуальным проблемам современности, где главной фигурой остается художник, гений или безумец, обладающий высоким художественным вкусом и непосредственным чувством юмора.
Список литературы Феномен "эпатажа" в высокой моде
- Баранов Г. С. Мода и гендер в эпоху постмодерна / Баранов Г. С., Родионова Д. Д. - Кемерово: Кемер. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. - 204 с.
- Затулий А. И. Костюм рубежа третьего тысячелетия: семиотика, ассоциации, психоанализ / Затулий А. И. - Владивосток: Дальнаука, 2005. - 213 с.
- Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900-1999 / Зелинг Ш. - М.: Konemann, 2000. - 656 с.
- История моды с XVIII по ХХ вв. Коллекция института костюма Киото. - М.: Арт-родник, 2003. - 736 с.
- Килошенко М. И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты / Килошенко М. И. - СПб.: СПГУТ, 2001. - 192 с.