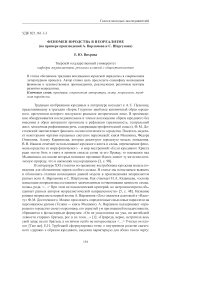Феномен юродства в неореализме (на примере произведений А. Варламова и С. Шаргунова)
Автор: Вихрова Екатерина Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обозначена традиция воплощения юродской парадигмы в современном литературном процессе. Автор ставил цель проследить специфику воплощения феномена в художественных произведениях, реализующих различные векторы развития неореализма.
Традиция, современная литература, жанр, неореализм, юродская парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/146281351
IDR: 146281351 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Феномен юродства в неореализме (на примере произведений А. Варламова и С. Шаргунова)
Традиция изображения юродивых в литературе восходит к А. С. Пушкину, представившему в трагедии «Борис Годунов» наиболее каноничный образ юродивого, прототипом которого послужило реальное историческое лицо. В произведении обнаруживается последовательное и точное воплощение образа юродивого без внесения в образ авторского произвола и рефлексии (зрелищность, театральный жест, загадочная рифмованная речь, содержащая профетический смысл). Ф. М. Достоевский запечатлевает феномен «психологического» юродства. Писатель наделяет некоторыми чертами юродивых светских персонажей: князя Мышкина, Федора Опискина, Алешу Карамазова, которые реализуют юродскую модель поведения. В. В. Иванов отмечает использование юродского жеста и слова, перемещение феномена юродства из мира физического – в мир внутренний: «Если юродивого Христа ради могли бить и гнать в прямом смысле слова за его Правду, то насмешки над Мышкиным, на основе которых возникло прозвище Идиот, имеют ту же психологическую природу, что и насмешки над юродивым» [2, с. 98].
В литературе ХХI столетия по-прежнему востребована юродская модель поведения для обозначения героев особого склада. В статье мы попытаемся выявить и обосновать отличия воплощения данной модели в произведениях неореалистов разных волн А. Варламова и С. Шаргунова. Как отмечает И. А. Казанцева, «основу концепции неореализма составляют запечатленные почвенниками ценности семьи, почвы, рода. <…> При этом не поколенческий критерий, но антропоцентризм объединяет разных авторов неореалистической направленности» [5, с. 48]. Название романа неореалиста первой волны А. Варламова «Лох» является аллюзией к «Идиоту» Ф. М. Достоевского. Можно проследить определенные смысловые параллели на персонажном уровне (Тезкин ─ князь Мышкин). А. Варламов подчеркивает «природное» юродство своего персонажа, его скрытый ум при внешней незадачливости, обращается к фольклорным формулам: «Он не унаследовал ни ума, ни житейской ловкости старших братьев, рос в их тени…» [1]; «Природа, верно, истратила весь свой запас на его братьев, а он ничем особо не интересовался <…> Учился он плохо» [Там же]. Е.Н. Трубецкой сформулировал тезис о внутреннем родстве сказочного «дурака» с образом юродивого, выделив характерную для обоих типов черту:
«…вещее безумие, отсутствие человеческого “здравого рассудка” и в то же время обладание иною чудесною мудростью. У дурака эта мудрость волшебная, а у юродивого “ум Христов”, но в сказке легко стирается грань <…> тогда в одном и том же лице смешиваются черты дурака и юродивого» [6]. Саня Тезкин представляет собой подобный тип. Реализуется в романе Варламова значение слова юрод ─ «безродный, чужой»: «Мальчик был задумчив и тих, не любил шумных игр и ярких игрушек и с младенчества отличался двумя странно связанными между собою особенностями: таинственным предощущением смерти и необыкновенной влюбчивостью во все женское» [1]. Героя характеризуют в романе так: «…Ну, ей-Богу, блаженненький какой-то!» [Там же]. По словам Алексия Кузнецова, второе наименование мирского юродивого – «праведный» или «блаженный» [4]. Перед лицом смерти герою открывается тайна о земле и небе: «И вдруг понял, что там, за звездами, обязательно есть иной мир. <…> …он окончательно потерял интерес ко всему, что происходило с ним здесь» [1]. Характеристика близка к сути юродского мировосприятия, они «взирали на себя как на странников и пришельцев на земле и на мир этот как на страну пришествия» [4, с. 108]. Аллюзии на юродский топос вызывает следующая сцена: «За неделю до Нового года рядовому Александру Тезкину, сбивавшему лопатой куски дерьма в бетонном сортире, сообщили, что к нему приехала невеста» [1]. Туалет – один из типичных топосов юродивого, а вымытая уборная – характерный его атрибут, как отмечает С. А. Иванов [3]. На модель поведения сказочного Иванушки-дурачка накладываются аллюзии из евангельской притчи о блудном сыне, своеобразно корректируя юродство героя. «…Тезкин неожиданно сказал родителям, что не желает быть никому обузой, а потому отправляется искать лучшей доли и когда вернется, да и вернется ли вообще, не знает сам» [1]. Способ передвижения советского бродяги совмещает в себе модель юродивого и хиппи. С одной стороны, герой, как юродивый, становится нищим, а с другой стороны, он предпочитает не пеший путь, он пробирается по России то зайцем в поездах, то автостопом. Несмотря на странствия, Саня испытывает огромную нежность к умирающему отцу: «И подумалось ему тогда, что где-то там, за гранью видимого мира <…> его отца, некрещеного, убежденного атеиста, встретит светлый ангел и как не познанную на земле радость покажет небесный свет и проведет в горний мир» [Там же]. Впоследствии Тезкин самовольно принимает на себя роль пророка, смущая окружающих речами о последних временах. Его поведение в этот период уподобляется юродскому: «Все лето он провел в малопонятных странствиях по Руси, собирая вокруг толпы зевак, которым проповедовал второе пришествие Христа, призывал пока не поздно покаяться, отказаться от стремления к наживе и обратиться к Богу. Он выступал на рынках и площадях, на вокзалах и в больших магазинах, везде, где собиралось много народа. Несколько раз его забирала милиция, случалось, били сами слушатели, но самостийный пророк не унывал и проповедовал даже в психдиспансере, поразив тамошний персонал редким здравомыслием» [Там же]. В поведении героя воплощена юродская модель поведения, на нее накладываются образы хиппи и сказочного дурачка.
Книга С. Шаргунова «Свои» по-своему преломляет традицию изображения юродства в литературе. Это сборник рассказов о «лишних» людях ─ о заболевшем человеке и платной американской медицине («Сахар на рану»), о непонятом современниками писателе («Валентин Петрович»), о людях, чувствующих отделенность от других благодаря своему рождению в семье священника («Поповичи», «Мой батюшка»). Жанр, избранный С. Шаргуновым, иной, нежели у А. Варламова, отчасти это влияет на способы воплощения юродской парадигмы. Уже в названии книги акцент сделан на общности самых разных и в то же время самых обыкновенных людей. Отверженность как сущностная черта юродства объединяет их всех. С. Шаргунов подчеркивает значимость жизни маленького человека через юродскую парадигму. Так, герой рассказа «Полоса» Алексей Петрович Соков ухаживает за заброшенной взлетной полосой, совершая, на первый взгляд, никому не нужное, бессмысленное дело. Это его юродский топос – пограничье между небом и землей, жизнью и смертью. Тема кладбища сближает взлетную полосу с иным, недоступным пониманию живущих пространством. Отношение Сокова к «безжизненной» полосе почтительное, как к кладбищу, а его работа – не только физическая, но и духовная: «…за ней слежу, как за кладбищем. <…> Работаю, и о тех, кто помер, вспоминаю. <…> Я им… это… вечный покой обеспечиваю. И на всякий случай работаю – вдруг спасу кого-то» [7, с. 290]. Юродская модель поведения проявляется в профетизме Сокова: его деятельность однажды оказалась действительно спасением для потерпевшего аварию самолета. Однако предсказание его не предвестие последних времен и всеобщей погибели, как в «Лохе» Варламова, а спасение конкретных людей, дарование им жизни. Есть у Сокова и такие же «странные» помощники: «Только Антон Антоныч, коротышка, иногда помогал. Если сильно напивался – гордо и с песнями. А трезвый помогал тайком – или затемно, или ближе к сумеркам» [Там же, с. 291]. Можно рассматривать это как намёк на деление жизни юродивого на дневную и ночную и на наличие конфидента при юродивом. Окружающие испытывают недоверие и агрессию по отношению к Сокову. Дочь считает отца «чокнутым», жена «без конца называла Сокова сумасшедшим» [Там же, с. 292]. Алексея Петровича считают «психом», когда он, защищая свое детище от посторонних, угрожает грибникам. Мы видим частотность лексем, связанных с безумием героя. Точно так же окружающие называют Саню Тезкина «дураком» и «непутевым». Но героя С. Шаргунова нельзя назвать смиренным и безвольным: он готов сражаться за полосу и даже убить (недаром в его угрозах звучит слово «ружье»). Соков, таким образом, не только терпит насмешки и поругание, но и сам проявляет агрессию по отношению к миру, но только в том случае, если кто-то занимает его «волшебную» территорию. Герой сталкивается и с бандитами, ибо становится помехой на их пути к даровому обогащению. Однако его мистический танец-молитва навлекает на «сильных мира сего» гибель. Как юродский жест выглядит отказ героя от переезда. Автор акцентирует внимание на бездомности Сокова: «Дом разрушался, надо было менять крышу, ставить новое крыльцо, но Соков все отчаяннее отдавал себя делу – под открытым небом» [Там же, с. 291]. Этого героя, в отличие от варламовского, не держит ничто материальное. Противоположны они в плане кочевности-оседлости: Тезкин свободно передвигается по стране и зарубежью, Соков же намертво привязан к полосе, не отпускающей его даже в ближайший город.
А. Варламов и С. Шаргунов в своих произведениях стремятся отразить и понять жизненные реалии, переосмыслить временное и частное. Оба автора не останавливаются на простом описании действительности, но стремятся заглянуть за грань видимого, подчеркивают мистический характер жизни, наполненной таинственным смыслом. Юродская парадигма позволяет им реализовать на практике принцип неореалистического «двоемирия», а также возродить в литературе образ человека, ищущего истину и готового жертвовать своим благополучием и даже жизнью ради спасения других.
THE FOOL’S PHENOMENON IN NEOREALISM (ON THE EXAMPLE OF WORKS BY ALEXEY VARLAMOV AND SERGEY SHARGUNOV)
E. Y. Vikhrova
Tver State University
Department of Journalism, Advertising and Public Relations
Список литературы Феномен юродства в неореализме (на примере произведений А. Варламова и С. Шаргунова)
- Варламов А. Лох //LIBKIN. URL: https://libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/183326-1-aleksey-varlamov-loh.html#book (дата обращения: 15.01.2019).
- Иванов В. В. Юродивый герой в диалоге духовных типов
- Вестник Костромского государственного университета. 2016. № 3. С. 96-101.
- Иванов С. А. Блаженные похабы: культурная история юродства. //LIBKING. URL: https://libking.ru/books/religion/367328-s-a-ivan-ov-blazhennye-pohaby.html (дата обращения: 22.01.2019).
- Иеромонах Алексий (Кузнецов). Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое, моральное и социальное исследование. М.: Изд-во Моск. подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2000. 416 с.
- Казанцева И. А. Неореализм в современной русской прозе//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 45-49.
- Трубецкой Е. Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. //azbuka.ru. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Trubeckoj/inoe-tsarstvo-i-ego-iskateli-v-russkoj-narodnoj-skazke/(дата обращения: 29.01.2019).
- Шаргунов С. А. Свои. М.: АСТ, 2018. 345 с.