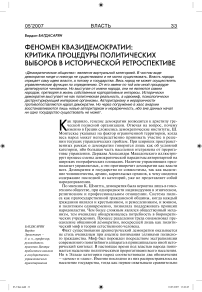Феномен квазидемократии: критика процедуры политических выборов в исторической ретроспективе
Бесплатный доступ
«Демократическое общество» является виртуальной категорией. В чистом виде демократии нигде и никогда не существовало и не могло существовать. Власть народа отрицает саму идею власти, а потому и государства. Весь народ не может осуществлять управленческие функции по определению. От его имени по той или иной процедуре делегируются чиновники. Но выступая от имени народа, они не являются самим народом, претворяя в жизнь собственные корпоративные интересы. Исторически демократия выступает не как политическая реальность, а идеомиф, психологически деструктурирующий имперские организмы. Авторитаризму и иерархичности противопоставляются идеал демократии. Но через погружение в хаос анархии восстанавливаются лишь новые авторитаризм и иерархичность, ибо вне данных начал ни одно государство существовать не может.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169118
IDR: 170169118
Текст научной статьи Феномен квазидемократии: критика процедуры политических выборов в исторической ретроспективе
«Демократическое общество» является виртуальной категорией. В чистом виде демократии нигде и никогда не существовало и не могло существовать. Власть народа отрицает саму идею власти, а потому и государства. Весь народ не может осуществлять управленческие функции по определению. От его имени по той или иной процедуре делегируются чиновники. Но выступая от имени народа, они не являются самим народом, претворяя в жизнь собственные корпоративные интересы. Исторически демократия выступает не как политическая реальность, а идеомиф, психологически деструктурирующий имперские организмы. Авторитаризму и иерархичности противопоставляются идеал демократии. Но через погружение в хаос анархии восстанавливаются лишь новые авторитаризм и иерархичность, ибо вне данных начал ни одно государство существовать не может.
К ак правило, генезис демократии возводится к архетипу греческой полисной организации. Отвечая на вопрос, почему именно в Греции сложились демократические институты, Ш. Монтескье указывал на фактор ограниченной территории, когда весь народ может непосредственно принимать участие в решении текущих управленческих проблем. При широких пространственных рамках о демократии говорится лишь как об условной категории, ибо большая часть населения отстранена от прерогативы управления. Держава Александра Македонского иллюстрирует процесс смены демократической парадигмы авторитарной на широких географических площадях. Наличие управляющих предполагает управляемых, а это противоречит демократии как власти всех. Демократия и государство не совместимы, так как выделение чиновничества, армии, карательных органов, к чему сводится содержание последней из категорий, уже не представляет собой народоправления.
БАГДАСАРЯН Вардан
Эрнестович – д. и. н., п ро фессор, руководитель проектов Центра проб л емного анализа и государственноуправленческого проектирования
По мнению К. Шмитта, демократия была вероятна лишь в гомогенном обществе, при однородности индивидуумов в этническом, религиозном и профессиональном отношении. Система полиса как прагосударственной гражданской общины, когда каждый гражданин являлся и крестьянином, и ремесленником, и воином, и политиком одновременно, позволяла поддерживать принцип народовластия. Чем более сложным являлся общественный механизм, тем очевиднее обнаруживалась потребность в бюрократических учреждениях. Процесс разделения труда ознаменовал преодоление общинной демократии, воскресшей лишь как политический миф в теории естественного человека.
Факт существования древнегреческой демократии оказывается не столь очевидным при анализе понимания эллинами полисного гражданства. Миф был порожден посредством экстраполяции современного понятийного аппарата в принципиально иной исторический контекст. В настоящее время под властью народа понимается наделение политическими прерогативами всего населения. Но в Элладе категории народ соответствовало два обозначения – «демос» и «лаос». Именно последнее из них распространялось на население государства, тогда как первое охватывало сравнительно узкий слой граждан. Демосу функционально соответствовало понятие «политес», то есть право участия в политических выборах. Вне ее оказывался более многочисленный слой идиотес, не допускавшийся по тем или иным обстоятельствам к избирательным процедурам.
Таким образом, даже не имея в виду считавшихся людьми массы рабов, греческая демократия, как и иные государственные организмы, характеризовалась корпоративностью. Посредством процедуры докимассии проходила тщательная фильтрация включаемых в демос свободнорожденных. Права участия в выборах лишался человек, не несший военной службы и не плативший налогов. Поэтому люмпенизированные слои населения не оказывали влияние на принятие политических решений. Такой возможности были лишены и лица, не готовые по тем или иным соображениям защищать свой город-государство. Из политес исключались граждане, совершившие как преступления, так и проступок, не соответствующий эллинским представлениям о нравственности. Этим ограничением создавалось непреодолимое препятствие проникновения криминалитета в политическую сферу. В находящемся в эйкумене греческого влияния Риме важное общественное значение имела должность цензора, выносящего наказания за действия, не противоречащие закону, но осуждаемые с точки зрения морали. Вне демоса оказывались лица, не получившие классического образования. Учитывая эллинский дидактический принцип формирования гармонической личности, это означало политические ограничения для человека, не знающего наизусть «Илиаду», не умеющего играть на музыкальных инструментах и складывать стихи, имеющего физические изъяны. По докимассии гражданин должен содержать фамильный склеп, то есть быть связанным с исторической традицией полиса памятью о предках. По афинским законам к преступлениям приравнивались даже дурные высказывания об умерших афинянах. В Риме прошло не одно столетие борьбы, прежде чем италийские идиотес – плебеи сравнялись в правах с политес – патрициями, этимологически указывавших на связь с традицией предков. Считающаяся атрибутом современной демократии процедура плебисцита восходит к всеобщим опросам римских плебеев. Показательно, что чем более расширялись права плебеев, тем вульгарнее становились нравы Рима, превратившегося в итоге в дегенеративный организм. С культом предков связывалось также предписание по лишению избирательных прав человека, не выказывавшего почтения к родителям. Непременным для гражданина было участие в религиозных церемониях и мистериях. При подобных требованиях к гражданству подавляющая часть современного населения оказывалась бы вне выборов.
Еще менее соответствовала современным представлениям о демократии система выборов в средневековых городских республиках. Исследования новгородского вечевого строя свидетельствуют, что его электоральная система распространялась лишь на 400–500 человек – представителей аристократии. А ведь кроме самого новгородского населения, под юрисдикцией вече «господина Великого Новгорода» находились огромные пространства русского Севера.
В 1975 г. в США был принят федеральный закон, отменявший ценз грамотности. К настоящему времени из всех ограничений на участие в выборах сохранен лишь ценз оседлости. Да и он зачастую имеет символическое звучание. Так, в Германии ценз оседлости составляет лишь три месяца проживания в стране.
Правда, в КНР еще активно действует механизм лишения избирательных прав лиц, нарушающих общественный порядок. Право определять недостойных к участию в выборах предоставляется специальным избирательным комиссиям.
Лучшие ли люди избираются президентами? Зачастую их профессиональные да и интеллектуальные качества вызывают большие сомнения. Что-то не слышно, чтобы в президенты баллотировались ведущие ученые. Зато много бизнесме- нов, генералов, актеров, спортсменов. Если для любой из общественных должностей требуется профессионализм, то чтобы стать президентом, в нем нет необходимости. Другое дело монархи, сызмальства подготавливаемые для занятия высших государственных постов.
Один персидский путешественник резюмировал свои наблюдения замечанием: «В Афинах говорят умные, а управляют дураки». Не случайно особая роль в демократических системах отводится ораторскому искусству, ибо задачей политика является не поиск оптимального решения, а убеждение в своей правоте большинства. Не случайно К. П. Победоносцев определял демократию не иначе, как «говорильней». Этимология слова парламент, ведомая от французского глагола parler – говорить, свидетельствует о справедливости такой оценки и в ретроспективе исторического генезиса. Побеждает тот, кто выдвинет более эффектные лозунги, посулит больше благ, в целом выразит инстинктивные стремления масс. Популизм становится методическим принципом политика в демократической системе. Фукидид, объясняя политическое долголетие Перикла, приводил метафору с искусством вождя демоса как борца: «Когда я его повалю, он убеждает, что не упал, через это оказывается победителем и убеждает в этом остальных, которые видели борьбу». Если Перикл сыскал себе популярность организацией театральных представлений, его оппонент Кимон добивался расположения избирателей, раздавая деньги и еду. В Риме непременным приемом, демонтирующим намерение войти во власть и оставаться у руля управления государством, являлись бесплатные раздачи продовольствия и устройство зрелищ для толпы. Греческая дешифровка термина демагог в качестве вождя народа указывает на связь демократического политиканства с ораторством, так как оно, несмотря на косноязычие многих политиков, почти всегда сопряжено с ложными обещаниями и заведомо невыполнимыми посулами. «Его величество большинство голосов, – писал Н. Черняев, – далеко не непогрешимо, отличается изумительной слепотой и сплошь и рядом служит орудием людей тупых, злобных и ничтожных».
Французский идеолог «новых правых» А. де Бенуа выделял три исторических типа демократического устройства, соответствующих каждому из компонентов лозунга «Свобода! Равенство! Братство!». Мечта французских просветителей построить общество на основе их синтеза являлась утопией. Свобода служила знаменем либеральной демократии, отдающей ценностный приоритет дискретному индивидууму (образец США). Впрочем, культ чего-либо подразумевает недоступность сакральной категории для массового пользования. По замечанию одного мыслителя, свободные нации не ставят статуи Свободе. Равенство провозглашалось высшей ценностью эгалитарной демократии, приоритетом для которой является не индивид, а их совокупность (образец СССР). Советская демократия была лишь иного порядка, чем американская. Для обеих моделей свойственен тоталитаризм, так как единым основанием их выступает массовое общество, подразумевающее всеобщность. Наконец принцип братства реализуется в органической демократии, рассматриваемой А. де Бенуа не механическим сцеплением индивидов, а живым организмом. Народ в ней представляет собой культурно-историческую общность и не может быть расчленен на дискретные единицы. Безусловно, что греческое полисное и средневековое магдебургское право основывалось на демократии органического типа. Еще Ж. Руссо дифференцировал «волю всех» (то есть большинства) и «общую волю». Органическая демократия брала за основу не статистику голосов, а народный дух, не укладывающийся в математические параметры. Весьма часто в истории волеизъявление электората и воля народа не совпадали. И ополченцы Д. Пожарского, и большевики действовали вопреки электоральной легитимности, но те и другие в свою эпоху являлись выразителями народного духа.
Философскую основу современных избирательных систем составляют вульгаризированные постулаты эпохи Просвещения. Так или иначе идейный арсенал демократии восходит к философии пантеизма. Ее социальным преломлением явилась теория «естественного человека». Если Бог – это природа, то человек уже в силу рождения наделен божественной атрибутикой. Демократия основывается на допущении, что человек сам по себе разумен и добр, а пото- му способен к самоуправлению. История же показывает, как глупы и злы бывают люди толпы, в силу чего лишь под руководством меньшинства, преодолевшего биологическую природу, дикость преобразуется в культуру. В демократиях знания, низводимые до уровня понимания толпы, профанизируются и теряют свою силу. Традиционалистские системы предполагают эзотерический характер знания, на каждую ступеньку которого посвящались лишь неофиты, достигшие определенного уровня интеллектуальной и моральной готовности.
В архаических сообществах господствовало сакральное право, общественные институты и нормы интерпретировались на основании этиологических мифов как божественное установление. Из пантеистического мировоззрения следовало, что «естественный человек», будучи частицей разлитого в природе божества, наделен «естественными правами» уже в силу своего рождения. Надо иметь в виду, что насаждаемая ныне как универсальная идеома о «правах человека» есть лишь компонент философии пантеизма и не имеет общечеловеческого значения. Для иных философских и религиозных доктрин никаких абстрактных прав человека не существует. Назначение индивидуума определяется не его самоценностью, а сверхзадачей коллектива.
В свое время Гогенцоллерны любили подчеркивать, что получили корону от неба и только перед небом будут держать отчет. Разъяснять массам тонкости государственной политики считалось делом неблагодарным. Другим идеологическим преломлением пантеизма явилась теория «общественного договора», подменяющая собой божественную этиологию власти. Государство провозглашалось следствием соглашения между людьми, а не установлением свыше. Если уполномоченные на основании этого консенсуса к осуществлению властных обязанностей выполняют их ненадлежащим образом, договор можно расторгнуть и перезаключить. Для оптимизации общественного контроля за властью была выработана технология периодического переоформления договора (предположим, с частотой раз в четыре года). Отсюда проистекает процедура выборности верховной власти, перманентно парализующая общественный организм. Если задачей монарха было передать державу в руки наследников преуспевающей, что предполагало мегаисторическую стратегию политики, то президент – это «халиф на час», максимально эксплуатирующий государственные ресурсы в краткий миг апогея своей карьеры.
Принципы аристократии и выборности антиномичны. Аристократия политически не интегрирована в систему выборов даже в государствах, оцениваемых в качестве классической демократии. Так, в Великобритании лица, имеющие титул не ниже барона, лишены активного избирательного права. Палата лордов кооперируется не на основе выборов, а наследственного права.
Избирают, как правило, далеко не лучших. При бесцензовых системах выборов и профессор, и домохозяйка, и маргинал имеют равный голос. А поскольку домохозяек больше, чем профессоров, то и избранный президент будет соответствовать ментальности домохозяек. С другой стороны – при крайней дороговизне современных избирательных технологий, президентами не становятся случайные люди. За спиной каждой из марионеточных фигур демократического истеблишмента находятся крупные финансовые магнаты.
Дабы добиться более компетентного отбора среди кандидатов в президенты, были изобретены ступенчатые выборы. Но при выборах президента Законодательным собранием последнее оказывается подвержено различного рода лоббистским воздействиям. Да и парламентские президенты оказываются, как правило, марионеточными фигурами. А. де Токвиль считал панацеей американский опыт учреждения коллегии выборщиков. «Американцы, – писал он, – пришли к выводу, что люди, которых выбрали для того, чтобы они принимали обычные законы, не смогут адекватно выразить волю народа в том, что касается избрания главы государства. Кроме того, будучи избранными на срок больше года, они могут выражать взгляды, которые за истекшее время уже изменились. Американцы также рассудили, что если на законодательный орган будет возложена обязанность избирать главу исполнительной власти, то еще задолго до начала выборов законодатели сделаются объектом подкупа и игрушкой в руках интри- ганов, тогда как специальные выборщики, подобно присяжным заседателям, останутся неизвестными толпе, вплоть до того самого дня, когда им придет время действовать, причем они появятся лишь для того, чтобы отдать свои голоса». Но не имеющий столь прочного социального статуса, как депутат парламента, выборщик еще более подвержен лоббированию, а то и прямому принуждению.
Выборы, по мнению А. де Токвиля, подрывают нравственные основы общества. «Пороки системы выборности главы государства, – писал французский философ, – заключаются в том – и это нередко и небезосновательно подчеркивается, что она дает такую соблазнительную возможность для проявления личных амбиций и так сильно разжигает страсти в погоне за властью, что часто законных средств достижения этой власти уже недостаточно, и как следствие люди решаются прибегнуть к силе, если им недостает прав. Очевидно, что чем шире прерогативы исполнительной власти, тем больше становится желание добиться ее; чем сильнее воспламеняется честолюбие претендентов, тем активнее их поддерживают нижестоящие, но не менее честолюбивые чиновники, рассчитывающие разделить власть и могущество после того, как победит их кандидат».
В преддверии выборов государство на довольно значительный срок сбивается с трудового ритма и погружается в хаос президентской гонки. А. де Токвиль сравнивал это время с общенациональным кризисом. По сути весь последний год истекающего президентского срока уходит на подготовку новых выборов. Другие вопросы государственного бытия оказываются парализованы. Предпринимаются популистские шаги, вместо того чтобы решать вопросы долгосрочного перспективного развития. «Я уже столь близок к моменту моей отставки, – признавался за шесть недель до выборов президент Д. Джефферсон, – что участвую в делах лишь тем, что выражаю свое мнение».
Правда, законодательство порой устанавливает жесткие временные рамки предвыборной агитации. Так, в Японии она должна длиться не более двух недель. За счет государственной казны кандидаты могут только по одному разу по 5 минут выступить по телевидению и радиовещанию. Государство оплачивает издание пятикратной газетной рекламы 6х9 см, одного цветного плаката определенного тиража, 350 тыс. открыток для рассылки избирателям. Устанавливается даже лимит бензина для поездок на периферию. Кандидатам запрещены обход домов избирателей и агитация против оппонентов. Агитационные афиши расклеиваются только в определенных местах, на специальных стендах. Но даже при столь строго японском регламентировании избирательной кампании запреты систематически нарушаются. Опосредованная агитация за кандидатов ведется еще задолго до официального объявления о начале избирательной кампании.
Впрочем, избирательные технологии в Японии имеют ярко выраженную национальную специфику. Основное влияние там оказывают не политические пристрастия, а родственные клановые связи. Голосуют, как правило, всем кланом за депутата, наиболее близкого к нему в генеалогическом отношении. Доходит до того, что место умершего депутата автоматически переходит к его родственнику.
«Интриги и коррупция, – утверждал А. де Токвиль, – являются естественными пороками избранных правительств». Когда переизбранию подлежит глава исполнительной власти, интригами и подкупом занимается само государство. Если в предвыборную борьбу включается представитель исполнительной власти, то государственные интересы отодвигаются для него на второй план, а на первый выступает вопрос собственного переизбрания. Раздача президентом должностей и министерских портфелей происходит зачастую не по профессиональному критерию, а как компенсация за оказанные услуги.
Конечно, при критике несовершенств современных избирательных систем возможна аберрация близостью. Но если погрузиться в пласты Средневековья, то сопоставление моделей выборной и наследственной власти будет не в пользу первой. При выборных королях Речь Посполита пребывала в перманентном хаосе. Период выборов царей в России, по-видимому, не случайно совпал со Смутным временем. Города, функционирующие по принципам магдебургско-го права, не могли оказать достойного сопротивления при столкновении с государствами, придерживавшимися режима наследственной монархической власти.
Привыкшее к политическим дискуссиям население «вольных городов», вместо того чтобы сплотиться вокруг власти, погружалось во внутренние распри. Поражение Новгородской республики от Москвы дает тому яркую иллюстрацию. Электорат в отличие от имперского народа не имеет привычки к воинской дисциплине, а потому в конечном итоге капитулирует перед необремененной псевдодемократическими стереотипами силой.
Еще одним мифом демократической государственности является соблюдение принципа разделения властей. Согласно исследованию А. Зиновьева реальные механизмы власти сосредоточены не у политической верхушки исполнительной и законодательной вертикали, а у технократии бюрократического корпуса. В псевдодемократических США он составляет армию в 15,5 млн. человек. Меняется партийный и персональный облик Белого дома и конгресса, но состав технического аппарата остается константным. В Италии чуть ли не ежегодно происходил политический кризис, сопровождавшийся отставками правительств и даже привлечением их к суду, но государственная система продолжала нормальное функционирование. Ее жизнедеятельность обеспечивали не визуальные лица, а технические работники, которые в отличие от первых при занятии должности не проходят никаких демократических процедур, а утверждаются бюрократическим способом.
В действительности «демократические выборы» – иллюзия. При дороговизне не то что избирательных технологий, а самого выборного процесса участвовать в нем могут лишь единицы, представляющие истеблишмент.
Федеральные законы США, ограничивающие расходы кандидатов на избрание в конгресс уровнем в 70 тыс. долларов, а в сенат – в 150 тыс. долларов, не соблюдаются. Известны многочисленные случаи, когда для своего избрания в парламент претенденты затрачивали миллионы долларов. На выборах президента США в 1996 г. оказалось израсходовано 53 млрд. долларов.
Деньги нужны кандидатам во власть, даже если не принимать во внимание дороговизну избирательных кампаний. Так, во Франции существует избирательный залог: 1 тыс. франков – при выборах в нижнюю палату (сумма возвращает- ся только в том случае, когда кандидат набрал не менее 5% голосов), 2 тыс. франков – в сенат, 10 тыс. франков – при баллотировании на должность президента.
Если признать психологию подлинной наукой, то следует предположить, что при обладании необходимыми средствами возможны приемы манипуляции массовым сознанием. Народ принуждают проголосовать за того или иного кандидата посредством психотропной обработки его подсознательного уровня. Для реализации глобального избирательного имидж-мейкерства требуются колоссальные затраты. Побеждает тот, кто купит более дорогостоящую электронную технологию. Таким образом, результаты выборов оказываются предопределены степенью финансовых ресурсов кандидатов.
Современный человек живет в информационном поле и черпает информацию из прессы, радиопередач, телевидения. Находясь в мире оторванных от реальности символов и информационных стереотипов, он может даже идти против своих собственных интересов. В этом смысле человек не является политически свободным. Существует специальный термин «Brain washing» – промывание мозгов, отражающий механизмы манипуляции массовым сознанием. Посредством данной методики могут осуществляться зомбирование людей, создание политически послушного человека, превращение народа в легко управляемую массу. Таким образом, все разговоры о свободе, демократии, возможности волеизъявления на выборах являются не более чем мистификацией.
Длязакреплениянавязываемыхпонятий СМИ используют методику, заключающуюся в постоянном повторении (вдалбливании) слов-символов (не раскрывая их сути), ассоциирующихся с определенным кандидатом. Проельциновские выборные кампании в России проходили под аккомпанемент речитатива: «демократия», «рынок», «свобода», «тоталитаризм», «реформы», «сталинские репрессии», «цивилизованные страны», «гражданское общество», «правовое государство» и т. п. При этом не произносилось, к примеру, слово «капитализм» (хотя именно оно отражало ельцинов-ский экономический курс), имевшее для постсоветского человека инфернальное звучание.