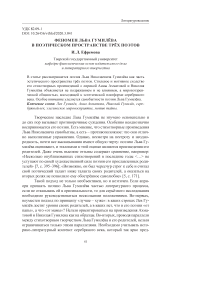Феномен Льва Гумилёва в поэтическом пространстве трёх поэтов
Автор: Ефремова Ирина Львовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается поэзия Льва Николаевича Гумилёва как часть эстетического пространства трёх поэтов. Стилевое и мотивное сходство его стихотворных произведений с лирикой Анны Ахматовой и Николая Гумилёва объясняется не подражанием и не влиянием, а мировоззренческой общностью, восходящей к эстетической платформе серебряного века. Особое внимание уделяется самобытности поэзии Льва Гумилёва.
Лев гумилёв, анна ахматова, николай гумилёв, серебряный век, элегическое мировосприятие, мотив тайны
Короткий адрес: https://sciup.org/146281723
IDR: 146281723 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.041
Текст научной статьи Феномен Льва Гумилёва в поэтическом пространстве трёх поэтов
Творческое наследие Льва Гумилёва не изучено основательно и до сих пор вызывает противоречивые суждения. Особенно неоднозначно воспринимается его поэзия. Есть мнение, что стихотворные произведения Льва Николаевича самобытны, а есть – противоположное: что они отлично выполненные упражнения. Однако, несмотря на пестроту и неоднородность, почти все высказывания имеют общую черту: поэзию Льва Гумилёва оценивают, и эталонами в этой оценке являются произведения его родителей. Даже очень высокие отзывы содержат сравнение, например: «Несколько опубликованных стихотворений в последние годы <…> не уступают по своей художественной силе поэзии его прославленных родителей» [7, с. 395–396]; «Возможно, он был чересчур строг к себе и считал свой поэтический талант ниже таланта своих родителей, а оказаться на вторых ролях не позволило ему обострённое самолюбие» [5, с. 171].
Такой подход не только необъективен, но и неэтичен. Если априори признать поэзию Льва Гумилёва частью литературного процесса, если не отказывать ей в оригинальности, то для серьёзного исследования необходимо руководствоваться несколькими положениями. Во-первых, неуместен подход по принципу «лучше – хуже»: в каких строках Лев Гумилёв достиг уровня своих родителей, а в каких нет, что в его поэзии «от папы», а что «от мамы»? Нельзя ориентироваться на произведения Ахматовой и Николая Гумилева как на образцы. Во-вторых, проводя параллели между стихотворным творчеством Льва Гумилёва и его родителей, нельзя ограничиваться только этими параллелями. Необходимо учитывать историко-литературный контекст серебряного века, который так ярко пред- ставляли Анна Ахматова и Николай Гумилёв. Нельзя не учитывать и традиции всей русской и мировой литературы, равно как и преломление достижений серебряного века в дальнейшей поэзии ХХ столетия. Наконец, необходимо иметь в виду, как сам Лев Гумилёв относился к своим занятиям поэзией, испытывал ли он чувство поэтического долга – или же стихи были для него только средством самовыражения. Надо заострить внимание и на том, как поэтический дар и поэтическая интуиция сказались на его научной деятельности, есть ли точки соприкосновения – хотя бы в плане тематическом – между его поэтическим и научным творчеством.
Чем была поэзия для Льва Гумилёва? Мало сказать: он жил ею всю жизнь. Он жил в ней, а она – в нём. В ссылках и на литературных вечерах он читал стихи – и свои, и Николая Гумилёва, знал много стихотворений не только русских, но и зарубежных поэтов. Поэзия для него, в том числе и собственная, была своеобразным фоновым наполнением, без которого существование невозможно. Писать стихи было для Льва Гумилева органично и естественно, на это занятие он смотрел как на само собой разумеющееся. Это как дом, в котором живёшь: знаешь его изнутри – его чердаки, подвалы, чёрные ходы и скрытые комнаты. Так и у Льва Гумилёва: поэтический мир, в котором он родился, был его собственностью, частью его самого, его средой, его воздухом. И образный, поэтический язык, на котором общались обитатели этого дома, стал его родным и основным языком.
Восприятие поэзии изнутри не могло не сделать стихотворное творчество Льва Гумилева явлением в своём роде единичным, исключительным, отстоящим от иных литературных явлений. Оно не ограничено юностью, как часто бывает у особо эмоциональных натур. Оно не являлось средством оттачивания и закрепления профессионализма, как было у М. Горького. Оно не предваряло зрелый период, как, например, у И. С. Тургенева или А. Платонова, и не перемежалось с художественной прозой, как у биполярных художников слова А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И.А. Бунина. Неравномерно, то в большей, то в меньшей степени, стихи рассредоточены по всей жизни Льва Гумилёва, и необычно то, что к ним неприемлем традиционный, хронологический принцип изучения. Не выстраивается путь поэта: ни последовательный – путь постепенного обретения мастерства; ни путь спирали – по принципу отрицания.
Здесь неприменима концепция «трёх витков» [6, с. 10], предложенная В. В. Кожиновым и работающая по отношению к творчеству многих поэтов. У Льва Гумилёва не было этапов поисков и возвращения к «изначальному слогу». В его поэзии не просматривается путь лирического «я», восхождение от субъективного к объективному. У него нет произведений, где бы проявлялось так называемой «творческое целомудрие», когда лирическое «я» «прячется за строку» – подменяется фор- мой третьего лица, не позволяющей обнажённо и откровенно говорить о личной трагедии.
Не только не выстраиваются этапы творческой эволюции поэта Льва Гумилёва, но и отсутствует период, который надо бы назвать ученическим или хотя бы начальным. И причина тут отнюдь не в малом количестве написанных или сохранившихся стихотворений. Выражение «начинающий поэт», в большинстве случаев соответствующее произведениям, созданным в молодом возрасте, к Льву Гумилёву не подходит. Стихи, написанные им в 1934–1935-е годы, когда ему было двадцать два – двадцать три, нельзя определить как ранние. В них нет погрешностей, характерных для ученичества. Нет двоения образа, композиционно-логической дисгармонии, грамматических несоответствий, плеоназмов, неблагозвучий, авторской «глухоты». В них нет эпатажа, грубого экспериментаторства – и нет влюблённости в кумиров и подражания им, что тоже свойственно молодым. А главное, в поэтических творениях двадцатидвухлетнего Гумилёва отсутствует неравноценность, наблюдаемая даже у очень талантливых начинающих художников, когда самобытные находки чередуются со строками слабыми. В таких произведениях, как «Огонь и воздух», «Пир», «Одиночество», «Самоубийца», в цикле «Мадригалы» и в других, Лев Гумилёв предстаёт как мастер. У этих произведений мудрое, взрослое содержание. Например, в освоении темы поэта и поэзии. В молодом возрасте чаще присматриваются к себе, думают о возможном будущем признании или непризнании. И это закономерно и ожидаемо. Подобные искания выразила Марина Цветаева в известных строках: «Разбросанным в пыли по магазинам / (Где их никто не брал и не берёт!), / Моим стихам, как благородным винам, / Настанет свой черёд» [9, с. 23].
Молодой же Гумилёв как бы перешагивает через своё «я» – и проблему творчества исследует со стороны философской, элегической, экзистенциальной: «И в тайну всего живого / Не в силах проникнуть сами, / Мы зовём чудесное слово, / Начинаем писать стихами» [3, с. 48] (далее цитаты по изданию [3] приводятся с указанием только номера страницы в круглых скобках).; «И слепы мы. Познание в одном / Чудесном, новом знанье нашем» (49). Он делает такие выводы и обобщения, к которым другие поэты идут всю жизнь: «Постараемся учесть / Смысл мгновений тихих» (49); «Мы так бессильны новое сказать. / И старое понять мы не умеем» (48); «Мы мало, в сущности, с землёй знакомы. / Земную жизнь скрывают облака. / Мы с ней в гостях у времени пока, / И только в вечности бываем дома» (46). Он пишет о божественной сущности искусства, о «чудесном», то есть данном от Бога, слове и о «чудесном знанье», о тайне творчества как преломлении тайны бытия, о предначертанности пути поэта, о его трагическом, опять-таки судьбоносном одиночестве, о невозможности выразить невыразимое поэтическим, но всё-таки земным языком: «Веленью моему / Покорно всё. Земля и воды, / И лёгкий воздух, и огонь / В одно моё сокрыты слово. / Но слово мечется, как конь, / Как конь вдоль берега морского» (31). Эти проблемы поднимали, конечно, Пушкин и Лермонтов, об этом размышляли Тютчев в стихотворении «Si-lentium», Блок в «Незнакомке» и в «Творчестве», Николай Гумилёв в уже последнем цикле «Огненный столп», например, в «Шестом чувстве»: «Так век за веком – скоро ли, Господь? – / Под скальпелем природы и искусства / Кричит наш дух, изнемогает плоть, / Рождая орган для шестого чувства» [4, с. 291]. Ведь назначение художника во многом и сводится к тому, чтобы осознать это самое назначение. Такое, пушкинское, осознание приходит обычно в зрелые годы, и здесь Лев Гумилёв несколько опережает время. Может, этот фактор и повлиял на то, что стихотворное творчество не стало его главной целью.
В тридцатые годы у Льва Гумилёва уже сложившийся поэтический мир с оригинальной системой сквозных образов, с взаимодействующими и взаимопроникающими темами и мотивами. К этому миру уместнее применить выражение «лирический герой», а не «лирический субъект». Лирический герой поэта – это психологически сложный образ человека с его устойчивыми гражданскими и эстетическими принципами. Этот образ концептуален – художественно обобщён и общественно значим: «Что стезёй венценосных прогулок / И себе и другим на беду / Я разбитый пройду переулок, / До конца непременно пройду» (42). Он выходит за пределы единичного и, как и должно быть в истинной поэзии, не равен образу автора: «Так веселимся мы, беспомощны и наги, / Пещерною золой взволнованы умы, / И кровью мамонта, и светлой кровью браги / Мы пьяны в этот век – так веселимся мы» (34).
Ещё в детстве приобщившись к высоким произведениям, Лев Гумилёв не мог не перенять от своих родителей культуры стихосложения. Ему было свойственно бережное отношение к слову, и это во многом результат ненавязчивого поэтического воспитания. Стихосложение в его восприятии было занятием серьёзным, и позволить себе небрежность в этом занятии он не мог. Он был требователен к себе. Видно, что он работал над стихом, как и его родители, добивался гармонии. Вспомним, как строго, даже педантично относилась Ахматова к звукописному строю своих произведений. В «Поэме без героя» есть труднопроизносимая строка со стяжением заднеязычных: «Ясно всё: / Не ко мне, так к кому же!» [1, с. 432]. Поэтесса использует здесь неблагозвучие как средство психологической характеристики, но делает примечание: «Три “к” выражают замешательство автора» [Там же].
Поэтому и в техническом отношении стихотворения «раннего» Л. Гумилёва вполне профессиональны. Изобразительно-выразительные средства в них – от таланта и от сердца, а не от рассудка, не от желания заявить о себе, фигуры и тропы – органичны и к месту: «Сжать судьбу в кулак, швырнуть под ноги. / Растоптать и снова приподнять, / Чтобы други, недруги и боги / Смели лишь смотреть и трепетать. / Чтобы тьма разверзлась под ударом, / Чтоб огни воскресли в глубине, / Чтобы все за-грезили о старом / В сонном царстве, в вечном полусне» (57). Не навязчива и не вызывающа звукопись: «Холодно, и в парке побелели / Ветви лип и барельефы ваз» (37). Разнообразны размеры и индивидуализировано их применение. Лев Гумилев умело использует трёхсложники, пятистопный ямб – размер русской элегии, «колыбельный», контрастирующий с драматическим содержанием четырёхстопный хорей: «И мир открывается новый, / И жизнь, чем дальше, тем краше, / Идёт перед нашим словом, / Открытая словом нашим» (48); «Земля бедна, но тем богаче память, / Ей не страшны ни вёрсты, ни года» (56); «Чёткий шаг от края крыши / К божествам воздушным в гости, / И осенний ветер дышит / На раздробленные кости» (32). Благодаря сложной рифмовке (в шести- и пятистишиях), стопам спондея и пиррихия создаётся рифмо-ритмический рисунок, который никоим образом не является повторением того, что уже было создано: «Искажённый образ ночи / Только в мёртвом сердце есть, / Только с мёртвыми бормочет, / А живому непонятны / В бормотанье чёрном пятна / И разорванная весть» (33).
Получается, что родители как бы поделились со Львом своим поэтическим и жизненным опытом, а сын воспользовался тем, что было понято и открыто ими. Как учёный, совершая открытие, опирается на учения своих предшественников, так и Лев Гумилёв опирался на поэзию своих родителей. Приобщаясь к словесному искусству, он проходил путь поэта быстро, сжато, «экстерном», по пять или по десять лет за один год. Он впитал среду, которая его воспитала, а в этой среде духовное и материальное были неразрывно переплетены, в этой среде поэзия была частью быта, может, даже главной частью быта, и поэтому говорить о честолюбии, препятствующем поэтическому труду, или о подражании нет смысла. Подражать тому, что тебе принадлежит, невозможно. И то, что было достигнуто родителями, в этом мире было и достижением Льва Николаевича.
Поэзия серебряного века – явление неоднородное. Каждый её представитель по-своему оригинален, но, разумеется, есть общие моменты, позволяющие рассматривать её как систему, как единое, выдающееся в истории литературы и культуры явление. Многим произведениям данной эпохи были свойственны мотивы вечного и преходящего, быстротечности времени. Художники остро ощущали зыбкость границ между жизнью и смертью, настоящим и будущим, явным и скрытым, сном и явью. «Всякому зато могу присниться. / И не надо мне лететь на “Ту”, / Чтобы где попало очутиться, / Покорить любую высоту» [1, с. 483],– так выразила эту особенность Ахматова. Для многих поэтов серебряного века был характерен элегизм мышления, во многих их творениях осваиваются элегико-философские традиции ХIХ столетия. Нередко эти традиции трансформируются в сторону экзистенциональную, и тогда уже не стоит говорить о сохранении жанровых канонов. Но суть всё равно одна: общность в мировосприятии. Эта общность могла стать и причиной тесного взаимодействия литературы и философии: поэзия зачастую опиралась на философские трактаты и теории.
Творческие люди начала ХХ столетия тонко чувствовали друг друга – и не только живущих, но и умерших. В пределах поэтического текста они обращались друг к другу, вели между собой беседы. Мотивы такого общения, как в плоскости настоящего, так и с поэтами прошлых столетий, можно встретить в лирике Цветаевой, Пастернака, Блока, конечно, Ахматовой и Н. Гумилёва. В стихотворении «Нас четверо» Ахматова нашла ёмкое определение этому своеобразию и всему состоянию поэзии серебряного века. Это определение – «перекличка»: «Все мы немного у жизни в гостях, / Жить – это только привычка. / Чудится мне на воздушных путях / Двух голосов перекличка» [Там же, с. 547].
Лев Гумилёв – поэт и учёный – был взращён серебряным веком и не мог не воспринять этой общности. Черты же сходства его поэзии с поэзией его родителей происходят не от подражания «папе и маме», а от эстетической платформы серебряного века, выдающимися представителями которого являлись не папа и мама, а поэты Анна Ахматова и Николай Гумилёв. Черты сходства как раз и целесообразнее называть перекличками. Перекличек – осознанных и неосознанных – в творческой биографии Льва Гумилёва много. Без них была бы невозможна ни его переводческая деятельность, ни новый взгляд в учении об этногенезе и пассионарности. Их можно наблюдать на разных уровнях – не только на содержательном, но и на композиционном, ритмо-интонационном, акустическом.
Экзистенциальное восприятие времени – одна из ведущих перекличек. Лирический герой Льва Гумилёва тонко чувствует и «бег времени», и его относительность, его обратимое, по вертикали, движение. Он слышит эхо минувшего, разговор столетий, историческая реальность для него зачастую более выпукла, более зрима, более ощущаема, чем настоящее: «Мглистый свет очей во мгле не тонет. / Я смотрю в неё, и ясно мне: / Видно там, как в пене бьются кони, / И Москва в трезвоне и огне» (39). Время непостижимо, как непостижимы законы космоса. Оно может повернуть вспять, может остановиться, раствориться, исчезнуть. Когда оно исчезает – исчезает всё бренное: «Но всё казалось мне: разлука поправима. / Мигнули фонари, и время стало вдруг / Огромным и пустым, и вырвалось из рук, / И покатилось прочь – далёко, мимо, / Туда, где в темноте исчезли голоса, Аллеи лип, полей борозды. / И о пропаже мне там толковали звёзды» (53). Душа лирического героя вне времени – она всезнающа и вездесуща: «…Маятник столетий / Как сердце бьётся в сердце у меня. / Чужие жизни и чужие смерти / Живут в чужих словах чужого дня» (39). Здесь тоже стираются границы: поэту приоткрывается путь в запредельное – в иное бытие, в мир вечности, где нет ни времени, ни смерти: «Так я двусердный, я не встречу смерти» (39).
Похожее знание и похожее ощущение бессмертия души можно наблюдать у последователей, например, у позднего Арсения Тарковского: «Не надо мне числа: я был, я есмь, я буду…» [8, с. 279]. И, конечно, напрашиваются параллели с произведениями Н.С. Гумилёва и А. А. Ахматовой: «Поэт не человек, он только дух – / Будь слеп он, как Гомер, / Иль, как Бетховен, глух, – / Всё видит, слышит, всем владеет» [1, с. 555].
Но то, что угадывается за пределами барьеров, то, что в «зазеркалье», непонятно. Смерть, вечность, вдохновение, сон – всё это сопряжено с тайной. Мотив тайны – тоже одно из заметных проявлений поэтических перекличек. Обращаясь к этому мотиву, представители серебряного века следовали традициям своих предшественников – Жуковского, Пушкина, Тютчева, Фета, Полонского. Однако теперь во взглядах на тайну сместились акценты. Тайна стала синкретичной, сложной. Тайна бытия – она же и тайна творчества. Тайна творчества – в центре, она поворачивается разными гранями. Она же и тайна Творца, тайна Бога. «Тайны ремесла» – так называет Ахматова один из циклов. «Глухие тайны мне поручены…» [2, т. 2, с. 186], – писал Блок.
Теперь тайна стала роднее, привычнее. Она рядом, почти в быту. Она подчас даже тяготит своим незримым присутствием. Как у Жуковского и у молодого Тургенева, она особенно чувствуется на стыке конца и начала, на тонкой границе дня и ночи – в сумерках: «А сам закат в волнах эфира / Такой, что мне не разобрать, / Конец ли дня, конец ли мира, / Иль тайна тайн во мне опять» [1, с. 699]. Тайна наполняет жизнь, поэтому её исчезновение порождает разочарование и скуку. Стихотворение Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» отчасти об этом – о неспособности человеческого сознания воспринимать тайну, о душевной глухоте. Мир познан, поэтому пуст, замкнут, неизменяем: «Живи ещё хоть четверть века – / Всё будет так…» [2, т. 3, с. 37]. Многие поэтические произведения середины ХХ века, например, рубцовские «Зелёные цветы», представляют собой аллюзии к этому знаменитому блоковскому шедевру.
«Дар слов, неведомый уму, / Мне был дарован от природы» (31), – так писал Лев Гумилёв о своём таланте. Как и его современники, он дорожит тайной и, в отличие от лирического героя Тютчева, не «ропщет» и не стремится к её раскрытию. Здесь поэтическая мысль проходит ещё один виток: «И вижу: тайна бытия / Смертельна для чела земного / И слово мчится вдоль нея, / Как конь вдоль берега морского» (31). Человек проявит высшую мудрость, если не будет вмешиваться в установленный мировой порядок. Познать тайну – значит, уничтожить её, как в блоковском «Творчестве». Смертному человеку, который живёт «перевивши миг и век», не следует вторгаться туда, куда, в его же интересах, не позволяет проникнуть «длань незримо-роковая». Эта мысль – о том, что не только не дано, но и не следует – одно из открытий серебряного века. Она – ожидаемое следствие тютчевских размышлений. Эту истину открывает Николай Гумилёв в стихотворении «Звёздный ужас». Она итожит духовные искания главных героев романа И. С. Шмелёва «Пути небесные», подобные выводы – опять-таки в лирике 60–70-х годов ХХ века.
Нам представляется, что по отношению к поэзии Льва Гумилёва неприменимы слова «подражание», «влияние», «воздействие», то есть подражание Анне Ахматовой и Николаю Гумилёву, влияние и воздействие их творчества на поэзию сына. Здесь не всегда уместно употреблять даже слово «традиция». Возможно, правильнее говорить о едином поэтическом и – шире! – эстетическом пространстве трёх поэтов: Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Льва Гумилёва. В этом пространстве Лев – явление феноменальное и равновеликое своим родителям.
Эстетическая ценность стихотворного творчества Льва Гумилёва бесспорна. Оно – важное звено в истории русской поэзии. Оно вбирает традиции ХIХ века и, в свою очередь, прорастает в лирику второй половины века двадцатого. Оно требует изучения. Однако сам поэт, по всей вероятности, не считал художественные произведения главным делом жизни.
В 1961 году Анна Ахматова написала маленькое стихотворение «К стихам»: «Вы так вели по бездорожью, / Как в мрак падучая звезда. / Вы были горечью и ложью, / А утешеньем – никогда» [1, с. 549]. Для Льва Гумилёва стихи, по всей вероятности, как раз и были утешением. Не случайно он обращался к ним в те периоды жизни, когда было особенно тяжело. Он не ощущал предначертанности быть поэтом-стихотворцем. Он осознавал свой долг и путь как долг и путь учёного. Но именно поэтический взгляд на мир стал основой его научных трудов.
Tver State University the Department of Philological Basics of Publishing and Literary Creation
The article is devoted to the poetry of Lev Nikolayevich Gumilev as a part of the aesthetic space of three poets. The stylistic and motivational similarity of his poetic works with those of Anna Akhmatova and Nikolai Gumilyov is explained not by the fact of imitation or influence, but by the similarity of the worldview that goes back to the aesthetic platform of the Silver Age. Special attention is paid to the originality of Lev Gumilev’s poetry.
Keyword: Lev Gumilyov, Anna Akhmatova, Nikolai Gumilyov, the Silver Age, elegiac perception of the world, the motive of mystery.
Об авторе:
About the author:
EFREMOVA Irina Lvovna – Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Philological Basics of Publishing and Literary Creation, Tver State University (170100, Tver, Zhelyabov str., 33), e-mail: irina_efremova_tver@ rambler.ru
Список литературы Феномен Льва Гумилёва в поэтическом пространстве трёх поэтов
- Ахматова А. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. М.: Альфа-книга, 2010. 1007 с.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1960-1963.
- Гумилёв Л.Н. "Дар слов мне был обещан от природы". Литературное наследие. СПб.: Росток, 2004. 624 с.
- Гумилёв Н.С. Малое собрание сочинений. СПб.: Азбука, 2010. 797 с.
- Кожинов В.В. История Руси и русского слова. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 510 с.
- Кожинов В.В. Николай Рубцов. Заметки о жизни и творчестве поэта. М.: Сов. Россия, 1976. 85 с.
- Савченко А.Ф. Семь лет рядом со Львом Гумилёвым // Вспоминая Л. Н. Гумилёва: Воспоминания. Публикации. Исследования. СПб.: Росток, 2003.С. 165-188.
- Тарковский А. Благословенный свет: стихотворения. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2017. 336 с.
- Цветаева М.И. Осыпались листья над вашей могилой: стихотворения, поэмы. Казань: Татарское кн. изд-во, 1990. 542 с.