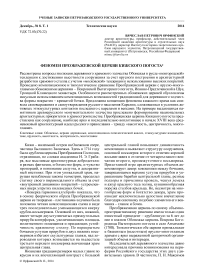Феномен Преображенской церкви Кижского погоста
Автор: Орфинский Вячеслав Петрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Технические науки
Статья в выпуске: 8 (145) т.1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены вопросы эволюции деревянного храмового зодчества Обонежья в русле «новгородской» тенденции к достижению высотности сооружения за счет ярусного построения и архитектурной разработки храмового столпа с учетом «московской» тенденции к использованию высоких покрытий. Проведено композиционное и типологическое сравнение Преображенской церкви с ярусно-многоглавыми обонежскими церквями - Покровской Вытегорского погоста, Иоанно-Предтеченской в Шуе, Троицкой Климецкого монастыря. Особенности рассмотренных обонежских церквей обусловлены искусным использованием композиционных возможностей традиционной для деревянного зодчества формы покрытия - крещатой бочки. Предложена концепция феномена кижского храма как символа самовыражения и самоутверждения русского населения Карелии, сложившихся в условиях активных этнокультурных контактов последнего с карелами и вепсами. На примере выдающихся памятников древнерусского монументального зодчества прослежено формирование национальных архитектурных приоритетов в храмостроительстве. Преображенская церковь Кижского погоста представлена как сооружение, наиболее ярко и последовательно воплотившее в начале XVIII века средневековый архитектурный идеал русского православия - триаду «высотность, центричность, многоглавие».
Обонежье, церкви деревянные, композиционно-типологический анализ, этнокультурное взаимодействие, ярусность, высотность, центричность, многоглавие
Короткий адрес: https://sciup.org/14750792
IDR: 14750792 | УДК: 72.03(470.22)
Текст научной статьи Феномен Преображенской церкви Кижского погоста
Кижи – маленький остров на Онежском озере, частица былинного Заонежья. Здесь в 1714 году была срублена церковь Преображения Господня, отразившая, по словам академика И. Э. Грабаря, все мыслимые архитектурные добродетели: и размах фантазии, и богатство форм, и чувство пропорций, и понимание силуэта, и декоративный инстинкт. При этом уникальный храм, нарушая незыблемые законы геометрии, преодолел статику своего пирамидального объема за счет «внутренней динамики» покрытий – устремленных вверх упругих килевидных бочек.
«Поверка гармонии алгеброй» показала, что в основу феерического образа Преображенской церкви ее творцами – плотниками-зодчими была положена четкая композиционная схема в виде трех последовательно уменьшающихся кверху срубов-восьмериков. Основной из них, нижний, имеет четыре двухступенчатых прямоугольных прируба-контрфорса, увеличивающих площадь молитвенного помещения и придающих устойчивость храмовому столпу. По перекрытым бочками уступам прирубов и двух нижних восьмериков взбегают скульптурные главки, над хороводами которых возвышается на пьедестале третьего верхнего восьмерика венчающая храм центральная глава.
Нюансная градация размеров малых главок по ярусам и их впечатляющий контраст с большой
центральной главой повышают динамичность композиции и выявляют структуру сооружения, основной восьмерик которого отмечен короной восьмиглавия в отличие от четырехглавого венчания второго, промежуточного восьмерика. Прихотливой игре архитектурных объемов аккомпанирует декор: кокошники между бочками, завершающими верхние уступы прирубов и украшающие барабан центральной главы, резные подзоры и причелины кровель, чешуя лемеха и ажур красного теса полиц, кувшинообразная порезка столбов крыльца. Но, несмотря на многообразие форм и богатство декора, храм производит исключительно целостное впечатление благодаря сквозному подобию элементов его венчания – главок и бочек.
Преображенская церковь по своему объемнопространственному решению имела только один известный прецедент – срубленную за 6 лет до нее в южном Обонежье церковь Покрова Богородицы Вытегорского погоста в селе Анхимово (1708). Типологически обе церкви принадлежат к башенным (высотным) ярусно-многоглавым храмам с ярко выраженной центричной организацией объема и интерьера.
Исследователей деревянного зодчества давно интересовала причина возникновения на периферии Российского государства этих двух удивительных храмов. В частности, П. Н. Максимов объяснял триумф обонежских плотников тем, что они, оставаясь верными традициям народного зодчества, сумели синтезировать в своих произведениях конструктивные и художественные достижения ряда лучших сооружений Русского Севера, включая не только культовые постройки соседнего Прионежья, но и церкви в селе Уна, на Ишне и Шижнеме, а также в Тихвинском посаде [4; 45].
Возможно, такой интеграции архитектурных приемов и форм в Обонежье способствовали перипетии истории, смещавшие импульсы экономического развития края с запада (во времена господства Великого Новгорода) на восток (в Московский период) и обратно (после основания Петербурга), что создавало на территории Заонежских погостов попеременно условия для активизации архитектурно-строительной и, шире, культурной деятельности и стабилизации сложившихся традиций.
Впрочем, все это в той или иной степени присуще многим субрегионам Русского Севера и потому неспособно полностью объяснить кижский феномен. Не связан ли он с отголосками традиций новгородских «древоделей», сохранившихся среди их потомков – заонежан? Во всяком случае упоминание «об досюльном житье новгородско-ем» нередко встречаются в заонежском фольклоре, а собиратель последнего Е. В. Барсов особо отмечал глубокие симпатии заонежан к древнерусскому быту, в котором они видели свои идеалы, по отношению к которому оценивали свое настоящее [18; XIII–XIV].
В этой связи безусловный интерес представляет мнение фольклористов о причинах сохранения былинных традиций Заонежья. Еще в 1894 году В. Ф. Миллер сформулировал концепцию о приуроченности ареалов былин на Русском Севере к территориям былой новгородской колонизации [10]. В дальнейшем былинная «новгородская теория» как подтверждалась, так и ставилась под сомнение, а в конце ХХ века была кардинально пересмотрена санкт-петербургским фольклористом Т. Г. Ивановой. Ее гипотеза сводится к следующему: все былинные регионы являются зонами этнического пограничья, где в результате культурных контактов с аборигенным населением обострялось этническое самосознание русских переселенцев, закономерно сравнивающих себя с иноэтничными соседями и отстаивающих свое собственное этническое «мы» с помощью песенного эпоса. Одним из таких регионов и стало порубежное Заонежье [5]. Убедительно версию Т. Г. Ивановой подтверждают историко-архитектурные данные [13].
Но насколько правомерно отождествлять закономерности развития поэтического фольклора и архитектурного формообразования в народном зодчестве? В самом деле, по Т. Г. Ивановой, акти- визация русского былинного творчества совпадала с периодами билингвизма («бифольклоризма» по терминологии исследователя), когда наиболее ярко проявлялось культурное противостояние разноэтничных групп населения. Естественно, что при полной ассимиляции одной из этих групп исчезал стимул для этнического самоутверждения другой группы и, соответственно, угасала былинная традиция [5; 90–91]. Именно это, по-видимому, и произошло в позднесредневековом Новгороде применительно к былинам – произведениям устного народного творчества, «историко-культурная миссия» которых ограничивалась преимущественно временем воспроизведения. Иное дело архитектура – «летопись мира», произведения которой, воспринимавшиеся в периоды обострения самосознания широких народных масс как символы этнического самовыражения, со временем могли переосмысливаться – как бы переводиться в особую категорию примет места с постепенно затухающим этнокультурным подтекстом [16; 462–464], способных, однако, в случае этнизации общественного сознания возрождать свои первоначальные смыслы.
Действительно, в противоположность былинному эпосу, не сохранившемуся в самом Новго -роде и его ближайшем окружении, некоторые архитектурные формы, предположительно возникшие на Новгородчине в период ее самостоятельности, позднее были зафиксированы не только в этническом порубежье бывшей вечевой республики – в Посвирье и Обонежье, но и в ее центре – в окрестностях Новгорода. Это обстоятельство послужило предпосылкой для архитектурных интерпретаций гипотезы М. Ф. Миллера о распространении былинного эпоса на Русском Севере. Впервые такую «интерпретацию» осуществил А. Б. Бодэ путем систематического сопоставительного анализа результатов картографирования отголосков древних новгородских и московских традиций в деревянном зодчестве Русского Севера [1], [2].
Думается, что на Новгородской земле проявилась универсальная особенность архитектурных традиций – зависимость их устойчивости (при прочих равных условиях) от времени укоренения. Естественно, что в центре Новгородчины традиции укоренились раньше, чем на большей части остальной территории. Что же касается восточного ареала отголосков традиционных форм, то он, видимо, сложился в результате стимулирующего воздействия на традиционное храмостроительс-тво особой устремленности местного населения к этническому самовыражению.
Чтобы убедиться в правомерности такого предположения, рассмотрим цепочку преемственной связи, ведущей из глубины веков к Преображенской церкви в Кижах (1714) и ее бли- жайшей предшественнице – Покровской церкви Вытегорского погоста (1708).
Первое сохранившееся звено этой цепочки – монументальный тринадцатиглавый собор Софии в Киеве, построенный в 1037–1045 годах византийскими мастерами по образу и подобию одноименного храма в Константинополе. Однако, несмотря на это, киевский собор разительно отличался от авторитетного прототипа и всех известных византийских церквей, напоминая многоглавой пирамидальностью наружного объема и мелкоячеистой структурой интерьера известные нам по более поздним примерам сооружения деревянного зодчества.
Особенности архитектуры киевской Софии, возможно, смог бы прояснить первенец христианского храмостроительства на Руси – тринадцативерхий дубовый Софийский собор в Новгороде, но, срубленный в 989 году, он уже в ХI веке сгорел, оставив после себя лишь невнятное сообщение летописца, дополненное позднейшими гипотезами. Одна из них была высказана в 1870-х годах археологом А. С. Уваровым, развита в 1990-е годы О. М. Иоаннисяном и сводится к следующему: к возведению деревянного собора новгородский епископ Иоаким Корсунянин как «природный грек <…> привлек греческих зодчих, которые применили рисунок и формы каменных византийских церквей с куполами к деревянным постройкам и поместили на Софийском храме тринадцать глав» [24; 23]. Однако специфика дерева как строительного материала неизбежно должна была внести коррективы в замысел византийцев, потребовав, как минимум, замены обширного молитвенного помещения системой стыкованных срубов-колодцев, соединенных между собой проемами и освещаемых сверху через окна в барабанах куполов («верхов»), расположенных над каждым из них, вместо единственного купола над кафоликоном, как это было в храмах-эталонах. Такие срубы неизбежно должны были образовать сложное внутреннее пространство, аналогичное по принципу построения интерьеру монументального киевского собора [7]. К сказанному добавим, что в отличие от деревянного сооружения в Новгороде в киевской Софии мелкоячеистая структура внутреннего пространства не вызывалась технической необходимостью и потому, скорее всего, была продиктована заказчиком – великим князем Ярославом Мудрым, который предпочел уже адаптированные на Руси образцы. Формы главного сооружения Новгорода конца Х – начала ХI века – дубового Софийского собора, по-видимому, представлялись Ярославу Мудрому как «примета» Руси. Вероятность такого предположения подтверждают факты привязанности Ярослава к городу на Волхове, где он княжил в юности и дружина которого дважды сажала его на Киевский стол [25; 104–106].
Таким образом, в Х–ХI веках в древнерусском храмостроительстве впервые формы, рожденные в камне, а затем интерпретированные в дереве, вновь уже в переработанном виде вернулись в монументальную архитектуру, предопределив уникальный художественный образ главного храма восточно-славянской державы.
В дальнейшем взаимосвязь образов деревянного и каменного зодчества осуществлялась в разных направлениях. Подтверждение тому – каменный первошатер церкви Вознесения в Коломенском (1532), построенный, по словам летописца ХVI века, «на деревянное дело» [22; 88], [23; 268], а затем вызвавший многочисленные подражания, причем, важно отметить, не только в каменном храмостроительстве. Под его воздействием в бассейне Северной Двины, связывавшей центр Московской Руси и ее столицу с портами Студеного (Белого) моря, в ХVI–ХVII веках сформировались величественные деревянные храмы с подчеркнуто высокими шатровыми на-вершиями [15; 75].
В пределах бывшей Новгородской земли высотные шатровые храмы распространялись с востока на запад синхронно с усилением московских влияний и ассимиляцией прибалтийско-финского населения, проживавшего чересполосно с русскими потомками новгородских переселенцев. К ХVII–ХVIII векам восточно-русские («московские») храмостроительные традиции достигли бассейна Онежского озера, где столкнулись с отголосками традиций новгородских. Для тех и других было характерно стремление к высотности культовых построек, но реализуемое по-разному: за счет увеличения высоты покрытия на востоке, срубного основания – на западе. Показательны в этом отношении реконструкции с увеличением высоты покрытия некоторых существующих обонежских храмов без каких-либо видимых утилитарных оснований для этого. Примеры тому – церковь в селе Росляково вблизи Пудожа, в которой под высоким шатром конца ХVIII века сохранился низенький первоначальный шатрик, и церковь Ильи Пророка (1692) в селе Самино в юго-восточном Обонежье, где во второй половине ХVIII века был устроен новый шатер, на 1,9 м превышающий по высоте первоначальный. Примечательно, что в Самино реконструкция была осуществлена ценой нарушения логики конструктивного решения – сохранившееся срубное основание первоначального покрытия перестало служить опорой для стропил нового шатра, что потребовало устройства дополнительных ригелей и подкосов [20; 102–107].
Думается, что «московская» храмостроительная тенденция связана с формированием в позднее Средневековье всероссийской архитектурной общности. Что же касается «новгородской» тенденции, то из-за недостатка фактических данных о причинах ее возникновения можно только гадать. Но одно представляется бесспорным: развитие «новгородской» ветви деревянного храмост-роительства происходило за счет архитектурной разработки храмового столпа. Так, популярность клетских церквей на Новгородчине привела к формированию там ярусно-четвериковых композиций, в которых искомый художественный эффект высотности достигался обычным для многих видов народного творчества способом – путем повтора однотипных структурных элементов. Пример тому – церковь Иоанна Предтечи Ширкова Погоста (1694) и известные по иконографическим источникам ее предшественники [8; 274]. По предположению П. Н. Максимова, генезис таких храмов, упоминаемых в новгородских писцовых книгах ХVI века под именем деревянных церквей «на каменное дело», связан с новгородскими и псковскими каменными культовыми постройками с крещатым (восьмискатным) покрытием [8; 274–275]. Но в деревянном зодчестве строительный материал позволял превращать такие церкви в ярусные башни, ставя один на другой несколько постепенно уменьшающихся срубов, подобно тому, как это сделано в Иоанно-Предтеченской церкви Ширкова погоста.
В русле «новгородской» тенденции к созданию ярусных структур лежат и деревянные «базиликообразные» церкви, зафиксированные в ХVII веке на рисунках из альбома А. Мейер-берга [9]. Их форма, скорее всего, была навеяна средневековыми западноевропейскими базиликами и вполне могла возникнуть под влиянием «латинян» в древнем Новгороде. В свою очередь, двух-трехступенчатые срубы базиликообразных храмов, по-видимому, послужили прецедентом для ярусности уступчатых (каскадных) крыш. Правомерность такого предположения подтверждает внешне занимающая промежуточное положение между храмами базиликообразными и храмами с каскадными покрытиями Никольская церковь из новгородской деревни Тухоля (ХVII–ХVIII века).
Дальнейшая эволюция каскадных покрытий в соответствии с универсальной архитектурной закономерностью преобразования конструктивных или конструктивно-декоративных форм в форм ы чисто декорат и вн ые , по - ви д имом у, протекала в направлении от крупноуступчатых к мелкоуступчатым крышам базилик.
Формы разностадиальных каскадных крыш в деревянном зодчестве можно проиллюстрировать на примере сохранившихся до наших дней разновозрастных храмов – церкви Рождества Богородицы в деревне Лиственка (1559) с крупноуступчатой крышей и Георгиевской церкви в селе Юксовичи (1493) с мелкоуступчатым покрытием.
Традиционализм крестьянской культуры на Русском Севере предопределил возможность длительного параллельного бытования разностадиальных архитектурных сооружений, что нередко вызывало несоответствие стадиальных и хронологических характеристик сосуществующих храмов. Отсюда, применительно к устройству покрытий, относительная молодость прототипа (церкви Рождества Богородицы в Лиственке) и древность производной от него (Георгиевской церкви в Юксовичах).
Оба храма расположены на территории современной Ленинградской области в пределах восточного периферийного ареала отголосков новгородских архитектурных традиций. Кстати, в этой связи важно отметить, что датировка церкви в Юксовичах ХV веком подтверждает вероятность существования ярусных композиций в деревянном храмостроительстве Великого Новгорода в период его самостоятельности. Косвенно о длительности укоренения такого композиционного приема на новгородских землях свидетельствует и его необычайная устойчивость: воспроизведение в юго-восточном Обонежье, на Вытегорщине, в сомкнутых покрытиях – «каскадных колпаках» – уступчатости новгородских двускатных крыш до конца ХVIII века (церковь Ивана Великого в Замошье, 1787) и даже до рубежа ХIХ–ХХ веков (Никольская церковь конца ХIХ века в д. Сяргозеро). В обоих случаях излом скатов достигался благодаря переменному сечению стропил, состоящих в нижней части из одного, а в верхней – из двух брусьев. Эта особенность позволяет усматривать в решении стропильной системы относительно «молодых» обонежских храмов стремление сымитировать уступчатость традиционных каскадных крыш, которая обычно достигалась за счет устройства специальных срубных стенок.
Композиционный анализ старейшей из известных ярусно-многоглавых храмов Обонежья – Покровской церкви Вытегорского погоста свидетельствует, что в ней объединились оба применявшихся на Новгородчине принципа компоновки объемов – центрично-ярусный с «нанизыванием» срубов на вертикальную ось (подобно Иоанно-Предтеченской церкви Ширкова Погоста) и поперечно-уступчатый, характерный для базиликообразных построек и реализовавшийся в башенных храмах в виде прирубов, утративших свою продольную направленность из-за центрич-ной формы «сердечника».
Проявилась в Покровской церкви и характерная для Новгородчины однотипность решения венчания храмового столпа и межъярусных элементов в виде крещатых (восьмискатных) крыш, в последнем случае как бы расчлененных, что позволило поместить в расширенное средокрес-тие вышележащий объем. Правда, вместо ранне- новгородских прямоскатных покрытий в Выте-горском храме были применены бочки, а из-за усложнения формы «сердечника» (замены четвериков восьмериками) в третьем ярусе храмового столпа к основной расчлененной крещатой бочке добавилась аналогичная, но развернутая под 45°, что образовало нарядный бочечный пояс.
Венчающая Покровскую церковь крещатая бочка, над средокрестием которой поставлена центральная глава, а на ветвях – аккомпанирующие ей малые главки, стала своеобразным ключом, раскрывающим секрет построения сложной системы покрытий. В Преображенской церкви Кижского погоста такой ключ отсутствует: дополнительный восьмерик – пьедестал центральной главы, возведенный в средокрестии крещатой бочки, лишил последнюю возможности служить точкой отсчета в сопоставительном ряду родственных элементов, тем самым сохранивших интригующую загадочность своего формообразования. Увеличение числа ярусов до пяти, а также изменение пропорций храмового столпа за счет уменьшения ширины диагональных граней основного восьмерика и длины прирубов к нему – все это придало облику Преображенской церкви по сравнению со своим предшественником и прототипом – церковью Покрова в Анхи-мове – бóльшую стройность, композиционную завершенность и, главное, подчеркнуло высотность, являющуюся общим знаменателем для «новгородских» и «московских» храмостроительных тенденций позднего Средневековья.
Характерное для восточных славян стремление к высотности архитектурных сооружений во многом было предопределено спецификой дохристианского религиозного ритуала, согласно которому храм являлся не местом богослужения, совершавшегося преимущественно на лоне природы, а объектом поклонения [11; 33], [19; 134]. Не случайно разработка темы высотности пунктирно прошла через всю историю домонгольского монументального храмостроительства, проявляясь синхронно с изменениями национального самосознания. Усиления тенденции к высотности совпали с двумя известными случаями поставления на киевский митрополичий стол русских по происхождению священнослужителей – Иларио-на в 1051 году и Климента в 1147-м [21; 105–106], что, видимо, стало результатом усилий со стороны прославянски настроенных князей. Не менее показательны и спады высотности, приуроченные ко времени татаро-монгольского нашествия ХIII–ХIV веков, а до этого к периоду с 1070-х годов до первой половины ХII века включительно, когда после смерти Ярослава Мудрого ослабла великокняжеская власть и, наоборот, увеличилось влияние провизантийски настроенных монастырей.
Другим архитектурным приоритетом для восточных славян являлась центричность, олицетворявшая универсальную идею сакральности во многих архаичных культурах. В Византии она укрепилась в результате преемственного развития дохристианских традиций греко-римской античности и Востока (мартирии – ранневизантийские центричные храмики над могилами святых [3; 25], купольные сооружения Древнего Рима и иранские храмы огня [3; 82–83]).
Первоначальная приуроченность богослужебного действа в византийских культовых постройках к геометрическому центру кафоликона не противоречила языческой обрядности, рассчитанной на активное участие в нем всех присутствующих. Видимо, поэтому идея центричности с готовностью была воспринята и древнерусским храмостроительством. Правда, к моменту крещения Руси в самой Империи ромеев происходила ритуальная переориентация с изменением характера службы, ставшей более камерной и сместившейся с центрального амвона на предалтарную солею. На Руси ритуальные изменения вскоре затронули и каменное храмостроительство. И только деревянные башенные церкви в силу присущего народному зодчеству традиционализма относительно долго сохраняли отголоски древней традиции. Один из примеров тому – Преображенская церковь в Кижах, в которой солея и фланкирующие ее клиросы выдвинуты к средней части кафоликона.
Органичное для древнерусского храмост-роительства сочетание высотности и центрич-ности – двух из трех наметившихся в киевской Софии архитектурных особенностей – блистательно воплотилось в храме-монументе Вознесения в Коломенском (1532), построенном, как уже отмечалось, «на деревянное дело» по заказу московского государя Василия III.
Третья особенность Софийского собора в Киеве – многоглавие. Обостряя силуэтные характеристики храма, оно вкупе с высотностью и цен-тричностью подчеркивало приоритетность его наружного объема по отношению к внутреннему пространству. Тема многоглавия в исследованиях отечественной архитектуры имеет обширную историографию, где оно, несмотря на продолжающуюся дискуссию по поводу генезиса многоглавых венчаний храмов, единодушно оценивается как традиционно русское архитектурное явление. Дополнительным подтверждением такой оценки служит то, что популярность многоглавия в большинстве случаев проявлялась синхронно с переориентацией общественного сознания на национальные приоритеты в ходе исторического развития [14; 74–80].
Без сомнения, не будет преувеличением назвать триаду «центричность, высотность и мно-гоглавие» национальным идеалом в храмост- роительстве русского Средневековья. Наиболее полно и последовательно этот идеал воплотился в московском соборе Покрова на Рву, построенном, скорее всего, русскими зодчими Бар-мой и Постником по заказу Ивана IV Грозного в 1555–1561 годах в ознаменование победы над Казанским ханством. «Предивный» храм-ансамбль впитал в себя опыт как каменного, так и деревянного зодчества. Причем последний для создателей собора, видимо, представлялся более приоритетным. Подтверждение тому – программное уподобление деревянным прототипам основных композиционных акцентов – центрального объема шатровой Покровской церкви и больших восьмигранных приделов, в противоположность «каменному» пластическому решению малых четырехгранных приделов. Более того, различие в пластической трактовке храмов подчеркивалось иерархической субординацией их посвящений [14; 74–79].
Сказанное, на первый взгляд, противоречит постулату о престижности каменного храмост-роительства на Руси и, думается, имеет только одно объяснение: традиции деревянного зодчества представлялись создателям храма исконно русскими и наиболее чуждыми византийским канонам. И хотя непосредственные носители таких традиций – деревянные церкви – в силу своей недолговечности и пожароопасности не способны были конкурировать с монументальными храмами, их, так сказать, «духовная ипостась», отражающая сакральные идеалы пращуров, воплощенная в ином, «вечном» материале, видимо, представлялась самому царю и патриотически настроенным духовным иерархам символом национального возрождения Руси и средством прославления ее государя [14; 54–55].
Несомненное сходство трех вершин древнерусской архитектуры – явно новаторских храмов Софии в Киеве, Вознесения в Коломенском и Покрова на Рву, с произведениями деревянного зодчества (в последнем случае к тому же трактуемых как явно приоритетные) свидетельствует, что сходство с освященными «обычаем» образцами являлось одним из основных условий адаптации в традиционной среде новой архитектурной формы. Именно поэтому, казалось бы, безграничная экспансия византийского церковного канона на Русь – полуязыческую, не знавшую каменного строительства страну, обернулась созданием нового архитектурного языка, в котором греко-византийские слова уже в первой половине ХI века получили отчетливую «славянскую интонацию» [12; 30–34], а к ХVI веку почти полностью вышли из употребления из-за несоответствия с представлениями русичей о наружном облике культовых сооружений как доминанты их объемнопространственной композиции [6].
Зарождение и возрождение триады «высотность, центричность, многоглавие», наглядно отразившей храмостроительный идеал русского Средневековья, приурочивались к расцвету Киевской, а затем Московской Руси. Напротив, распад Киевской державы вызвал усиление диктата византийского церковного канона в культовом зодчестве первой половины ХI века. Только к середине ХII века в унисон с ростом прославянских настроений князей активизировались исторические «воспоминания» о всплеске национального самоутверждения в храмостроительстве [12; 30– 34]. В целом же на протяжении ХI–ХIII веков развитие монументальной культовой архитектуры протекало преимущественно под знаком противоборства привнесенных вместе с христианством византийских церковных канонов и славянских традиционных предпочтений.
Покровский собор в Москве сыграл особенно важную роль в истории русской архитектуры, став одновременно и заключительным аккордом в процессе материализации архитектурного идеала русского Средневековья, и предвестником эволюционных преобразований Нового времени. Однако такое утверждение справедливо только по отношению к каменному храмостроительству, поскольку в деревянном культовом зодчестве финальный аккорд переместился на полтора столетия. Им стала церковь Преображения Кижского погоста.
Время возведения Преображенской церкви и ее ближайшей предшественницы Покровской церкви Вытегорского погоста – начало XVIII века, как известно, связано с изменением культурно-исторической ориентации России, отразившейся в «архитектурной разноголосице» – смеси итало-северогерманских традиций, воцарившейся при Петре I в профессиональном храмостроительстве. В этих условиях возрождение в Обонежье древнерусских архитектурных приоритетов, противоречащих официальным имперским тенденциям, проще всего можно объяснить особенностями региона.
Здесь, в зоне активных межэтнических контактов русского, карельского и вепсского населения, как и во всякой порубежной зоне, в результате этнокультурного взаимодействия складывались не только интегральные этнокультурные символы, но и формы-символы национального самовыражения и самоутверждения, наиболее ярко и образно отражавшие культурные приоритеты этих народов. Вот почему закономерным выглядит обращение потомков новгородских землепроходцев к своим исконным традициям, уходящим корнями в далекую дохристианскую древность. В очередной раз они мастерски разыграли «славянский сценарий» формообразования в двух богатых погостах – Вытегорском и Кижском, находившихся в эпицентрах этнокультурных процессов: даже в последней трети XIX века в непосредственной близости от русского населения указанных погостов проживали в первом случае – «чудь» и «чудь обрусевшая», а во втором – «чудь обрусевшая» и карелы в районе Великой Губы – Вегоруксы – Пегремы.
Покровская церковь Вытегорского и церковь Преображения Кижского погостов – классические примеры этнических символов, к числу которых можно отнести еще два известных ярусно-многоглавых храма, расположенных поблизости от Кижей, – Троицкую церковь Климец-кого монастыря и Иоанно-Предтеченскую церковь в Шуе. Они, на первый взгляд, отражали два этапа эволюции многоглавых завершений, композиционная целостность которых достигалась подобием силуэтных характеристик исходных форм – бочек, килевидных в поперечном сечении с ярко выраженной «пучиной», и венчающих их главок.
Сочетание расчлененной и нерасчлененной крещатых бочек, увенчанных главками, предопределило композиционный замысел Троицкой церкви Климецкого монастыря, а дальнейшее усложнение завершения путем чередования по высоте расчлененных крещатых бочек с ортогональной осевой и диагональной ориентацией (развернутых под углом в 45° друг к другу) отражено в многоглавии храма в Шуе. Наконец, соединение разноориентированных расчлененных крещатых бочек в одноуровневом покрытии создало непрерывный бочечный пояс, увенчавший нижний восьмерик ярусно-многоглавой композиции Преображенской церкви в Кижах. Покрытия перечисленных храмов Климецко-го монастыря, Шуйского и Кижского погостов образуют постепенно усложняющийся ряд морфологически родственных форм, который, однако, нельзя отождествлять с эволюционным рядом из-за хронологического несоответствия: ближайшая предшественница кижского храма, предвосхитившая его формы, – церковь Покрова Вытегорского погоста – датируется 1708 годом. Следовательно, срубленные в 1712 году Троицкая и в 1714-м Преображенская церкви, а также датируемый в широких пределах XVIII века Иоанно-Предтеченский храм в Шуе являются ее репликами, упрощенными в первом и третьем случаях и почти буквальной во втором.
Несомненное родство описанных обонежских храмов свидетельствует о целенаправленном поиске в культовом зодчестве Обонежья и Заонежья особых средств архитектурной выразительности, основанных на использовании крещатых бочек, о закономерном развитии в последующей постройке формообразующих тенденций, заложенных в храме-предшественнике, и о воплощении промежуточных творческих находок в храмах более низкого иерархического уровня.
Можно утверждать, что в раннее Новое время народное храмостроительство было вполне способно отразить волю и художественные предпочтения коллективного заказчика – «мира» черносошных (позднее государственных) крестьян и коллективного подрядчика – плотницкой артели; руководившие ею мастера при любой степени профессионализации практически не прерывали связи с традиционной и консервативной крестьянской культурой, что придавало преемственный характер архитектурному формообразованию.
Власть самодержца, даже такого жестокого и решительного, как Петр I, оказалась неспособной преодолеть преемственность развития народного зодчества. В частности, отрицательно отреагировала на попытку реформирования культура северно-русского крестьянства: указ императора от 1722 года «О сломании построенных часовен» [17] так и не был выполнен, и традиционные деревянные безалтарные храмы продолжали рубиться на Русском Севере до конца ХIХ века, а местами – до начала ХХ века включительно.
Преемственность уподобляла эволюцию народного деревянного храмостроительства постепенному процессу естественного отбора, ускоренному благодаря взаимодействию в фольклорной по своему характеру крестьянской культуре коллективистских и индивидуальнотворческих начал. Последние форсировали творческий процесс. Первые, наоборот, из-за своей ретроспективной направленности затормаживали его, играя в механизме фольклорного отбора роль фильтра, обеспечивающего совместимость новаций с традициями народной культуры. Именно такой «фильтр» стал залогом развития относительно медленного, но «закономерного», не осложненного последствиями субъективных архитектурных пристрастий. Подтверждение тому – возрождение в начале XVIII века на северо-западной периферии страны архитектурного идеала русского Средневековья, особенно примечательное на фоне характерной для монументального зодчества Петровской эпохи стилистической пестроты явно подражательных прозападных архитектурных манер и направлений, которые лишь в 1730-е годы сменились единством стиля елизаветинского барокко [26].
Налицо парадокс: профессиональная архитектура первой трети ХVIII века, несмотря на несоизмеримо бóльшие экономические возможности, не смогла создать ни одного сооружения, способного конкурировать с деревянной приходской церковью в Кижах по оригинальности и выразительности образных характеристик, уже не говоря о национальной самобытности, явно отсутствующей в то время в творениях зарубежных мастеров и их российских выучеников.
Итак, подытоживая сказанное, можно констатировать: ярусно-многоглавые храмы Обонежья и Заонежья безусловно являлись этническими символами – образными выражениями результатов культурных контактов соседствующих народов, наделявших архитектурные формы знаковыми функциями. Самые значительные из них – церкви Покрова Вытегорского и Преображения Кижского погостов – были построены русскими в зонах культурного сопоставления с вепсами в первом случае, с вепсами и карелами – во втором. Поэтому в процессе творческого соревнования с иноэтничными соседями в Обонежье и Заонежье целенаправленно акцентировались наиболее существенные признаки «своей» архитектуры, контрастно противопоставляемые архитектуре «чужой». Такими этнодифференцирующими признаками русским плотникам-зодчим в раннее Новое время, по-видимому, представлялись центричность, высотность и многоглавие – слагаемые русского средневекового храмостроительного идеала.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания № 2014/154 в сфере научной деятельности, НИР № 1704.
PHENOMENON OF TRANSFIGURATION CHURCH OF KIZHI CHURCHYARD
Список литературы Феномен Преображенской церкви Кижского погоста
- Бодэ А. Б. Древние новгородские и московские традиции в деревянном культовом зодчестве Севера XVI-XVIII вв.//Фундаментальные исследования РААСН по научному обеспечению, развитию архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2010 году. Научные труды РААСН. М.; Орел, 2011. С. 149-153.
- Бодэ А. Б. Древние новгородские влияния в деревянном зодчестве северо-западных областей XVI-XVIII веков//Академия. 2014. № 1. С. 50-54.
- Брунов Н. И. Архитектура Византии//Всеобщая история архитектуры в 12 томах, том 3: Архитектура восточной Европы. Средние века. М.: Изд-во литературы по строительству, 1966. С. 16-160.
- Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М.: Государственное архитектурное изд-во Академии архитектуры СССР, 1942. 215 с.
- Иванова Т. Г. Заонежская былинная традиция и проблема географического распространения былин//Международная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры русского Севера «Рябининские чтения’95»: Сб. докл./Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 1997. С. 82-91.
- Ильин М. А. О единстве домонгольского русского зодчества//Советская археология. 1968. № 4. С. 88-93.
- Иоаннисян О. М. Деревянные храмы домонгольской Руси//Успенская церковь в Кондопоге: Сб. ст. по материалам конференции. Кондопога; СПб.: Герменевт, 1996. С. 28-35.
- Максимов П. Н., Воронин Н. Н. Деревянное зодчество XIII-XVI веков//История русского искусства. Т. III. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 245-281.
- Мейерберг А. Альбом. Виды и бытовые картины России. XVII в. СПб., 1903. 189 с.
- Миллер В. Ф. Наблюдения над географическим распространением былин//Журнал министерства народного просвещения. 1894. № 5. С. 43-77.
- Орфинский В. П. Народное деревянное культовое зодчество Российского Севера: истоки развития//Народное зодчество: Сб. науч. трудов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. С. 32-62.
- Орфинский В. П. Загадки храма Софии -Премудрости Божией//Архитектура в истории русской культуры/Научный совет по историко-теоретическим проблемам искусствознания ОЛЯ РАН, НИИТАГ РААСН, МАрх И. М., 1996. С. 45-48.
- Орфинский В. П. К вопросу о типологии этнокультурных контактов в сфере архитектуры//Проблемы российской архитектурной науки: Сб. науч. трудов членов Отделения архитектуры РААСН. М.: РААСН, 1999. С. 78-94.
- Орфинский В. П. Собор Покрова на Рву и его аналоги. (О взаимовлияниях деревянного и каменного храмостроительства на Руси)//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 47-85.
- Орфинский В. П. Церковь Вознесения в Коломенском как ключевое звено в истории изучения российского храмостроительства//Архитектура в истории русской культуры. Вып. III: Желаемое и действительное. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 60-78.
- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 480 с.
- Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Т. 10. СПб., 1830. Общее приложение к томам полного собрания законов. К тому XI.-1722, п. 3924а -апреля 2. С. 1.
- Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым. Ч. II. Плачи завоенные, рекрутские и солдатские. М., 1882. 335 с.
- Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1988. 784 с.
- Савандер К. Ю. К вопросу о пропорционировании деревянных шатровых храмов Российского Севера//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 99-114.
- Смирнов П. История христианской православной церкви. М.: Крутицкое патр. подворье, 1994. 305 с.
- Тихомиров М. Малоизвестные летописные памятники XVI в.//Исторические записки. 1941. Кн. X. С. 64-94.
- Тихомиров М. Летописные памятники б. Синодального патриаршего собрания//Исторические записки. 1942. Кн. XIII. С. 256-283.
- Уваров А. С. Об архитектуре первых деревянных церквей на Руси//Труды II археологического съезда в Санкт-Петербурге. Вып. 1. СПб., 1876. С. 1-24.
- Фроянов И. Я. Древняя Русь. Опыт исследования социальной и политической борьбы. М.; СПб.: Златоуст, 1995. 703 с.
- Швидковский Д. О. Императорский указ и система взаимосвязей русской и европейской архитектуры в течение XVIII столетия//Заказчик в истории русской архитектуры. Архив архитектуры. Вып. V. 2. М., 1994. С. 141-148.