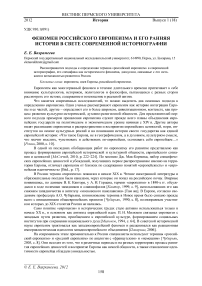Феномен российского европеизма и его ранняя история в свете современной историографии
Автор: Вахрамеева Е.Е.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуальная история России
Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются подходы к определению термина «российский европеизм» в современной историографии, его специфика как исторического феномена, дискуссии, связанные с его истоками и возможностью развития в России.
Европеизм, идея европы, российский европеизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147203372
IDR: 147203372 | УДК: 930.1(091)
Текст научной статьи Феномен российского европеизма и его ранняя история в свете современной историографии
Европеизм как многогранный феномен в течение длительного времени притягивает к себе внимание культурологов, историков, политологов и философов, пытающихся с разных сторон рассмотреть его истоки, содержание и воплощение в реальной жизни.
Что касается современных исследователей, то можно выделить два основных подхода к определению европеизма. Одни ученые рассматривают европеизм как историю интеграции Европы и ее частей, другие – определяют его в более широком, цивилизационном, контексте, как процесс развития культурно-исторической, духовно-религиозной общности. Для представителей первого подхода примером проявления европеизма служат прежде всего планы объединения европейских государств на политическом и экономическом уровне начиная с XIV в. Другие авторы видят реализацию европеизма в распространении и восприятии европейских ценностей, норм, институтов на основе культурных реалий и на понимании истории своего государства как единой европейской истории: «Что такое Европа, не в географическом, а в духовном, культурном смысле, что значит мыслить, чувствовать и действовать по-европейски, осознавать себя европейцем…» [ Ронин , 2000, с. 10].
В одной из последних обобщающих работ по европеизму его развитие представлено как процесс формирования европейской исторической и культурной общности, европейского сознания и ценностей [ McCormik , 2010, р. 222–224]. По мнению Дж. Мак-Кормика, набор специфических европейских ценностей и убеждений, получивших первое распространение именно на территории Европы, отличает европеизм от близких по содержанию понятий «европейскость» и «европейская идентичность» [Ibid., р. 17].
В России термин «европеизм» появился в начале XIX в. Чтение иностранной литературы и образовательные поездки были каналами, через которые он попал на российскую почву. Впервые появившись, по данным В. К. Кантора, у А. И. Герцена, термин «европеизм» в 1840-х гг. обсуждался в ходе полемики западников и славянофилов [ Кантор , 1999, с. 9], использовавших его как синоним западничества и антитезу «московского панславизма» [Там же]. В Европе, согласно сведениям профессора А.О. Чубарьяна, возникновение термина в Новое время было связано прежде всего с инициативами общеевропейских проектов [ Чубарьян , 1990, с. 8], полноправным участником которых до XIX столетия Россия не являлась.
Само понятие «европеизм» в исторических трудах стало активно использоваться только в начале XX в., в основном как антипод евразийской идеи. П. Н. Милюков связывал европеизм с западным путем развития, приобщением к европейской культуре, формированием социальных институтов при сохранении национального духа [ Милюков , 1994, с. 64]. В советской исторической науке европеизм трактовался как западноевропейский феномен и расценивался как реакционная империалистическая идеология западноевропейского объединения [ Панарина , 2006].
На современном этапе применительно к России специалисты используют термины «российский европеизм» и «русский европеизм» по аналогии с «французским» и «немецким» [ Чубарьян , 2005, с. 8]. Они исходят из того, что в различные периоды и на разных территориях процесс развития европейских ценностей и восприятие Европы как некоей общности, а также становление идентичности европейца обладали уникальностью.
Анализ контекста употреблений терминов «русский европеизм» и «российский европеизм» показал, что первый отмечается в исследованиях культурно-цивилизационного аспекта феномена, в которых европейская общность представлена как общее духовное и цивилизационное пространство [ Щукин , 2001; Кантор , 1999; Хорев , 2004; Лопухов , 1990]. Термин «российский европеизм» встречается у А. О. Чубарьяна, рассматривающего его и как критерий принадлежности к Старому Свету, и как отличие Европы от других континентов, и как разные планы европейского единства одновременно [ Чубарьян , 2003]. При этом для Чубарьяна важны государственный и политические уровни европейской интеграции, европеизм как течение политической мысли и современная реальность [ Чубарьян , 2005, с. 8].
Современные исследователи едины в том, что российский европеизм – многоплановое и широкое историческое понятие, которое на протяжении нескольких столетий видоизменялось и наполнялось новым смыслом, отражая разнообразие и противоречивость связей России с Европой. Как правило, они выделяют пять основных процессов, составляющих содержание феномена: восприятие европейской культуры и европейцев, осознание принадлежности к европейской культурной общности, развитие личностного сознания и культуры, усвоение европейской мысли и ценностей (индивидуализм, личное достоинство, рациональность, веротерпимость) без идеализации Запада, сотворчество в производстве европейской духовной культуры. При этом у исследователей есть особенные взгляды на понимание проявлений российского европеизма в различные исторические периоды и его отношения с другими процессами.
По мнению Чубарьяна, Европа – пространство с общей историей, географией, конкретной политикой и культурой, а российский европеизм – восприятие русскими европейской общности в ее многообразии [Там же, с. 14], включая моменты ее критики и непринятия [Там же, с. 223]. Он считает, что одна из ключевых проблем европеизма состоит в определении степени и уровня принадлежности России к Европе [Там же, с. 15], осознании единства на разных этапах истории [Там же, с. 14]. Российский европеизм помещен им в более широкий контекст эволюции общественного сознания в восприятии и представлении народов друг о друге. Европеизм рассматривается как часть и синоним развития «европейской идеи», отражающей отношение к Европе как общности с внутренним единством, спецификой и отличием от других частей света [Там же, с. 5]. В понятие «российский европеизм» Чубарьян включает понятие «русское мессианство» [Там же, с. 17], выразившееся в распространении просвещения на Восток. Он подчеркивает специфику положения Российского государства, накладывающую печать на развитие исторических процессов: «Россия действительно часть Европы, но одновременно и часть Азии, и уже упомянутый мост между этими двумя цивилизациями» [Там же, с. 23]. Чубарьян утверждает, что немаловажную роль в формировании российского европеизма сыграло влияние образа России, сложившегося в политических кругах и массовом сознании самой Европы [Там же, с. 15].
Культуролог В. Г. Щукин определяет российский европеизм как часть мирового процесса эмансипации личности [ Щукин , 2001, с. 59], индивидуализации и рационализации личного сознания, начавшегося в Московском государстве в XVII в. В отличие от других исследователей Щукин связывает российский европеизм с понятиями «модернизация» и «вестернизация» [Там же, с. 25]. По его мнению, европеизм был главной движущей силой модернизации – «мучительной перестройки экономических, социальных, культурных и прочих структур, включая и такие “деликатные” области, как общественная и личная психология, бытовое поведение и образ мысли» [Там же, с. 30]. Согласно Щукину, вестернизация, совпавшая по времени с эпохой становления современного индивидуализма и секуляризации культуры, привела к разногласию в рядах «интеллигенции» [Там же, с. 31] и появлению первых русских европеистов. Европеизм в России проявился как умонастроение значительной части интеллигенции [Там же, с. 21], направленное на усвоение европейской мысли и обеспечившее все необходимое для развития западничества в 1840-х гг.
В. К. Кантор выступил с концепцией российского европеизма как процесса возвращения к первоистокам. Осмысление европеизма Кантором происходит на основе культурной общности России и Европы. «Подлинный» европеизм «произрастает изнутри своей культуры, в процессе преодоления и переосмысления, одухотворения и пресуществления ее почвенных основ», таких как христианство, период Киево-Новгородской Руси, активный рост городов в домонгольский период [Кантор, 1999, с. 13]. Он отмечает генетическую связь русской культуры с западной, которую постоянно ощущает русский человек [Там же, с. 12]. Российский европеизм Кантор рассмат- ривает как процесс усвоения западного опыта без идеализации себя и Европы, проявившийся в становлении русского европейца [Там же, с. 17]. По его мнению, русский европеец является не просто потребителем западных технических усовершенствований, а сотворцом, сопроизводителем тех ценностей, которые рождаются в лоне личностной европейско-христианской культуры [Кантор, 1999, с. 17]. Путь к подлинной европеизации проходят все народы Европы, и «везде он сложен, ибо идеально развивающихся общественных структур и состояний не бывает» [Там же]. Щукин склонен отождествлять европеистов с либералами [Щукин, 2001, с. 49].
По мнению профессора В. А. Хорева, определяющим фактором европеизма являются итоги духовного развития нации, в первую очередь уровень развития культуры (литературы), ее ориентированность на общие для европейцев культурные и нравственные ценности, главными из которых являются личность и ее свобода [ Хорев, 2004, с. 7]. Он трактует российский европеизм как двуединый процесс приобщения к западноевропейской культуре и национальному творчеству, отражающий осознание национальной самобытности России и тем самым вносящий вклад в общеевропейскую культуру [Там же, с. 17]. В отличие от других Хорев отрицает наличие общеевропейского культурного начала в Московском государстве и рассматривает Польшу как проводника духовного влияния западноевропейской цивилизации на Россию.
Исследователи отмечают, что на разных этапах исторического пути российский европеизм имел свои проявления. Чубарьян выделил три основных периода в его развитии, каждый из которых нес более глубокое восприятие общности между Россией и Европой. Первоначально, до XVIII столетия, европеизм проявлялся лишь в различных контактах между Древнерусским, а затем Московским государством и западными соседями: династические браки, торговые договоры, дипломатические отношения [ Чубарьян , 2005, с. 15]. В XVIII и наиболее отчетливо в XIX столетии начался процесс европеизации государства, связанный с введением правовых норм, формированием системы сословного представительства, изменением уклада и быта на основе восприятия политических, законодательных и культурно-исторических процессов Западной Европы [Там же]. «Вершину» европеизма, по мнению Чубарьяна, представляют процессы восприятия (элитами и массовым сознанием) Европы как общности, органической частью которой является Россия, осознающая и принимающая европейские культурно-исторические и психологические ценности [Там же].
Другой вариант периодизации был предложен Щукиным. Как и Чубарьян, он выделил три этапа, однако в качестве главного критерия развития российского европеизма выступили взгляды русских «лишних людей» и их взаимоотношения с московским обществом [ Щукин , 2001, с. 59]. Первый этап (1612–1698) был для «русского европейца» (И. А. Хворостинин, Воин Нащокин, Г. К. Котошихин) временем духовного одиночества, враждебного отношения общества, тайной эмиграции или трудного компромисса «с собственной совестью и с чуждым окружением» [Там же]. Значительную роль на первом этапе Щукин отводил Польше как каналу, через который западные идеи попадали в Московское государство. На втором этапе (1699–1820) европеизм стал частью государственной политики, благодаря чему были созданы условия для активизации процесса усвоения передовой европейской мысли в кругах просвещенной элиты. Третий этап (1821– 1840) был связан с появлением русских мыслителей европейского масштаба, в частности, П. Я. Чаадаева, продолжившего ряд «лишних людей» Николаевской эпохи [ Щукин , 2001, с. 59– 60].
Часть западных и отечественных историков полагают, что европеизм в России не имел оснований, поскольку «мощные культурно-религиозные первоосновы, объединявшие Европу, не были приняты и распространены в России» [ Чубарьян , 2005, с. 83]. Щукин отмечает специфику восточного христианства и отсутствие в России античного и других важных этапов общего европейского опыта: возникновения сословий, Ренессанса, Реформации [ Щукин , 2001, с. 23]. Ж. Рован писал, что «европейцы обретали свою идентичность, противопоставляя себя “неверным”, сарацинам, язычникам, а также иным христианам, то есть тем, кто принял восточный, византийский обряд» [Идеи европеизма..., с. 26]. Первые проекты объединения Европы (П. Дюбуа, И. Подебрад) предполагали участие в нем тех, кто принадлежал к Римской церкви [ Чубарьян , 2005, с. 60].
Чубарьян, отмечавший отсутствие у России важных корней европейской общности (греческого и римского наследия, западного христианства), не отрицал наличия элементов европеизма в обществе. Он обратил внимание на династические браки, заключавшиеся с представителями русской знати и не рассматривавшиеся как связь с «варварами» [Там же, с. 82], а также на то, что
«русские и западные хронисты в спорах о восточных рубежах включали русские земли в Европу», уточняя при этом, что «земли Древнерусского государства одновременно рассматривались и в контексте кочевнического мира» [ Чубарьян , 2005, с. 18]. В связи с большой территорией государства, тесными контактами с Востоком и монголо-татарским нашествием российский европеизм формировался «не в русле, а иногда как антитеза христианской западноевропейской традиции» [Там же, с. 83]. При этом Чубарьян рассматривает крещение Киевской Руси в конце X в. как важный элемент в становлении европеизма [Там же].
Принятие христианства является для многих исследователей одним из весомых аргументов в пользу признания принадлежности России к европейской цивилизации. Например, Ф. Роде считает, что принятие христианства привело к отказу от признания божественной сущности природы [ Роде , 1993, с. 90], сделало возможным совершить великий шаг на пути к познанию мира и господству над ним [Там же, с. 91], утвердить абсолютную ценность человека [Там же, с. 92], воспринять достижения Древней Греции и Рима [Там же, с. 96].
А. Я. Гуревич писал о том, что Европа в глубинных своих основах восходит к христианству, в котором «с самого начала были заложены неискоренимые “параметры” индивидуального самосознания» [ Гуревич , 1990, с. 144]. Навыки мышления, «культурные гены», традиции искусства и литературы, истоки философских концепций, коренные предпосылки видения мира не могут быть поняты вне христианского контекста [Там же]. Согласно Щукину, вместе с христианством пришло на Русь представление о поступательном движении времени и человеческой истории [ Щукин , 2001, с. 23].
Христианство приближало Древнюю Русь к ценностям и атрибутам европейской культуры, включало ее в политические процессы западных соседей [ Чубарьян , 2005, с. 83], создавало базу для духовной общности с Европой [Там же, с. 8]. По мнению Щукина, с появлением христианства европеизм в России развивался в форме «естественного идеологического фона русской жизни» [ Щукин , 2001, с. 22].
Для ряда отечественных и зарубежных исследователей разделение христианства на западную и восточную ветвь не являлось существенным [ Лопухов , 1990, с. 76]. Обоснованием их позиции было признание личностного самосознания как одной из ценностей христианства и в его восточном варианте. Католичество и христианство, по мнению М. Наринского и В. Карева, суть ветви одного дерева [ Наринский , Карев , 1991, с. 13]. Некоторые ученые акцентируют то, что христианская культура достигла Руси еще до разделения церквей и отношение к католичеству как ереси изначально не было обязательным [ Щукин , 2001, с. 23].
Вместе с тем сторонники представленной точки зрения все же отмечают, что специфика византийского образца христианства оказала влияние на формирование отечественной социальнополитической модели и мировоззрения. Так, Щукин пишет об отсутствии в России творческого конфликта духовной и светской власти, который на Западе неизменно присутствовал [Там же, с. 27], а Кантор – о власти как инициаторе крещения на Руси [ Кантор , 1999, с. 26]. Специалисты также говорят о том, что принятие христианства было достаточно болезненным процессом, растянувшимся на несколько столетий и позволившим сохранить языческие элементы. Это привело к тому, что на Руси православная личность никогда не вступала с властью в прямой и непримиримый конфликт, даже древнерусские подвижники были людьми политически лояльными и умеренными [Там же], а «внешняя религиозность преобладала над индивидуальной религиозной рефлексией» [ Раков , 1999, с. 33].
В Московском государстве европеизм как умонастроение проявился в сферах, вовлеченных в процесс модернизации: военном деле, дипломатии, торговле, медицине и образовании. Однако помимо территориальной общности с Европой, о которой знал круг грамотных московитов к концу столетия на основе «Космографии» и азбуковников, существовали свидетельства идейной общности. Указывая на проявления европеизма в Московии в XVII в., современные отечественные историки отмечают появление в политической элите людей, деятельность, мышление и бытовое поведение которых выходили за рамки традиции, а иногда противоречили установленным нормам и правилам. Щукин этих немногочисленных представителей называл «лишними людьми» [ Щукин , 2001, с. 59], а Кантор – «русскими европейцами» [ Кантор , 1999, с. 16], являвшимися одним из каналов передачи европейского опыта, идей и технологий в московскую среду. К их числу, как правило, относят князя Хворостинина, подьячего Посольского приказа Котошихина, руководителей
Посольского приказа А. Л. Ордина-Нащокина и князя В. В. Голицына.
В XVII в. носителями европеистских идей был крайне узкий круг придворных деятелей. По данным В. С. Парсамова, критерием идентичности московита была принадлежность к православной конфессии, государственной территории и династии [ Парсамов , 2007]. Основной массой автохтонного населения европейцы воспринимались как «неправославные», «чужие», «немцы». Кроме того, признание Московского государства даже как самого дальнего края христианской Европы было свойственно очень немногим западным жителям. Необходимо отметить, что Европу как единое географическое и историко-культурное пространство в тот период рассматривала лишь незначительная часть населения самих западных государств, связанная, как правило, с управлением и интеллектуальной деятельностью. Западные мыслители включили Российскую империю в интеграционные проекты лишь в XIX столетии. В качестве непременного участника мирной процветающей Европы Россию представил французский писатель Виктор Гюго, выразив идею «Соединенных Штатов Европы» в 1849 г. в своей речи на Парижском конгрессе [ Смитиенко , 2010, с. 146].
Как правило, историки упоминают пять основных процессов, составляющих содержание европеизации в России: восприятие европейской культуры и европейцев, осознание принадлежности к европейской культурной общности, развитие личностного сознания и культуры, усвоение европейской мысли и ценностей (индивидуализм, личное достоинство, рациональность, веротерпимость), сотворчество в производстве европейской духовной культуры. Эксперты рассматривают европеизм как интеллектуальный продукт, связанный с работой сознания, мышления индивида, с его ценностными установками и идентификацией в рамках европейской общности. При этом одни специалисты исследуют европеизм исключительно как культурное явление общественной жизни российского общества, другие считают важным отметить государственный уровень взаимодействия России и Европы, учитывать изменение политических границ европейской общности и их восприятие. Исследователи, сосредоточившие внимание на цивилизационно-культурном аспекте, понимают русский европеизм как часть мирового процесса эмансипации личности и модернизации общества (Щукин), процесс усвоения западного опыта и ценностей и в то же время духовного развития нации (Кантор, Хорев).
В отечественной историографии нет единого мнения о времени возникновения и первых проявлениях европеизма в России. Одни эксперты находят первые его признаки только с момента зарождения государственности (Щукин, Кантор), другие – уже с периода принятия христианства (Хорев, Гуревич), третьи – вообще с начала правления Петра Великого или Екатерины II (Чубарь-ян). Все отводят особую роль христианству как общей европейской цивилизационной основе. Значительная часть исследователей отмечает наличие европеизма как умонастроения элиты российского общества начиная с XVII столетия (Кантор, Щукин, Хорев, Мыльников).
Список литературы Феномен российского европеизма и его ранняя история в свете современной историографии
- Арбатова Н. К. Европеизм и атлантизм как две опоры внешней политики Италии//Мировая экономика и междунар. отношения. 2010. № 3.
- Гуревич А. Я. Европейское средневековье и современность//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1990.
- Давыдов Ю. П. «Старый» европеизм против «нового» атлантизма?//США. Канада. Экономика -политика -культура. 2003. № 9.
- Дьюкс П. Львы и двуглавый орел//Родина. 2003. № 5-6.
- Зуева К. Французский «евро-атлантический проект»//Мировая экономика и междунар. отношения. 2009. № 9.
- Идеи европеизма во второй половине XX века. М., 2000.
- Кантор В. К. Феномен русского европейца: культурфилос. очерки. М., 1999.
- Лопухов Б. Владимир Соловьев и «русский европеизм»//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1990.
- Меховский М. Трактат о двух Сарматиях -Азиатской и Европейской и о находящемся в них. М.; Л., 1936 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Mehovskij/frametext1.htm (дата обращения: 13.12.2011).
- Милюков П. Н. Евразианизм и европеизм в русской истории//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1994.
- Наринский М., Карев В. Общие истоки европейской цивилизации//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1991.
- Панарина Е. А. Развитие идеи европейской интеграции в первой половине XX века: дис.... канд. ист. наук. Ставрополь, 2006 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/razvitie-idei-evropeiskoi-integratsii-v-pervoi-polovine-xx-veka (дата обращения: 28.01.2012).
- Парсамов В.С. Диалог культур и национальная идентичность: Россия -Западный мир//Межрегиональные исследования в общественных науках. М., 2007 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iriss.ru/attach_download?object_id=000150073740&attach_id=000549 (дата обращения: 14.11.2011).
- Раков В. М. «Европейское чудо» (Рождение новой Европы в XVI-XVIII вв.). Пермь, 1999.
- Роде Ф. Роль христианства в европейской цивилизации//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1993.
- Ронин В. К. Идентичность Европы: вопросы, позиции, перспективы//Идеи европеизма во второй половине XX века. М., 2000.
- Смитиенко Б. М. Россия и идеи объединенной Европы//Век глобализации. 2010. № 1.
- Хорев В. А. Русский европеизм и Польша//Славяноведение. 2004. № 1.
- Чубарьян А. О. Европа единая, но делимая//Россия в глобальной политике. 2003. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.globalaffairs.ru/numbers/3/1973.html (дата обращения: 29.11.2011).
- Чубарьян А. О. Исторические судьбы европейской идеи//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1990.
- Чубарьян А. О. Российский европеизм. М., 2005.
- Щукин В. Г. Русское западничество: генезис -сущность -историческая роль. Lodz, 2001 [Электронный ресурс]. URL: http://www.auditorium.ru/books/2080/(дата обращения: 15.01.2007).
- McCormick J. Europeanism. New York: Oxford University Press, 2010.