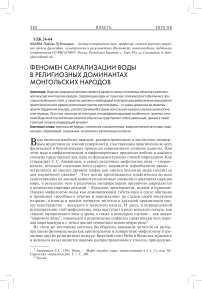Феномен сакрализации воды в религиозных доминантах монгольских народов
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
Вода как природный феномен является одним из самых почитаемых объектов в религиозной культуре монгольских народов. Сакрализация воды не только как этнокультурного феномена в пространстве Великой степи, а также как жизненно необходимой категории жизнеобеспечения фиксируется практически во всех сферах религиозных практик монголосферы - от самых архаичных до развитых практик буддийской культуры, распространившейся среди монгольских народов в разные хронологические периоды. При этом, несмотря на некоторые этнодифференцирующие особенности, практика почитания Воды монгольской метаэтнической общностью представляет собой уникальный, единый в своей структуре этноконсолидирующий аргумент.
Монгольские народы, космология и космогенетика, мифологические категории, вода, сансара, сакрализация, социальные, этнические и религиозные контексты
Короткий адрес: https://sciup.org/170195906
IDR: 170195906 | УДК: 24-64 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9395
Текст научной статьи Феномен сакрализации воды в религиозных доминантах монгольских народов
Из этого же источника хотелось бы обратить внимание читателя на интерпретацию феномена воды как оригинальную и конкретную мифологему в традициях других религиозных культур. Брачный союз Неба и Воды как мужского и женского начал является широко распространенным у этносов, принадлежа- щих к индоевропейским языкам. В иудейском варианте «оживляющее проникновение» божественного духа к «мировой воде» фиксируется через метафору птицы, высиживающей яйцо. В китайской традиции категория «инь» объединяет символ Воды как оппозиционную категорию Огню, а также как феномен женского начала1. В дохристианской и христианской традициях славянских народов по мере своей эволюции вода четко выступает как символ плодородия, зачатия и сбережения/оберегания водоемов и водных пространств [Рыбаков 1981: 15, 188, 191]. В некоторых традициях мифологема Воды может ассоциироваться или отождествляться с Землей [Абаева 2022].
На основе анализа привлекаемых собственных полевых исследований, а также этнологических, фольклорных и литературных материалов автор исследует феномен почитания Воды, практикуемого практически всеми монгольскими народами в Монголии (Монгол Улс), Внутренней Монголии Китайской Народной Республики, Республике Бурятия (Буряад Улас) и Республике Калмыкия (Хальмг Тангч) Российской Федерации. С XVI в. вектор сакрализации отдельных феноменальных субстанций и природных объектов, таких как вода, земля, гора, у монгольских народов позволяет фиксировать тот факт, что сакрализация этих феноменов, как бы присутствуя в контексте их общей универсальной религиозной культуры, в начале прошлого столетия сконцентрировалась в культе почитания гор и выдающихся вершин монголосферы в контексте ее этнокультурной локации. Это подтверждают не только наши полевые исследования, но и монгольские коллеги [ БНМАУ -ын угсатны зуй 1987: 380].
В статье о сакрализации Земли [Абаева 2022] автору не удалось проанализировать один архаичный и уникальный феномен – Этуген-эхе – неперсонифи-цированное божество Земли (мать-земля). В мифологии монгольских народов она представлена как «обожествленная земля». По нашему глубокому убеждению, ни один автор в своих исследованиях этого персонажа так и не осмелился представить настоящий перевод этого феномена (или не знал / не хотел) как непосредственно женский детородный орган (причем в не самом его лучшем литературном варианте). Хотя как неперсонифицированное божество, находящееся на земной тверди и связанное с ней, Этуген-Эхе упоминалась еще среднеевропейскими путешественниками, правда, их транслитерация была далека от совершенства2. Н.Л. Жуковская упоминает также и Эхе-Бурхан – «мать-богиню», которая в бурятской мифологии является праматерью всех божеств, демиургом. По версии унгинских бурят (современная Иркутская обл.), в самом начале «Эхе-Бурхан обитала во мраке и первобытном хаосе. Решив отделить небо и землю, она сделала дикую утку, которая нырнула в воду и принесла в клюве грязь». Согласно этой версии, Эхе-Бурхан из грязи «слепила землю – матушку Ульгень, затем сотворила на ней растения и животных»3. Возможно ли здесь влияние раннехристианских традиций, адептами которых насильственно или обманным путем, а также из практических соображений становились коренные насельники Иркутской губернии Российской империи? Вопрос открыт для обсуждения.
Архаичный дошаманский пласт мифологии этносов, сопредельных с монгольской метаэтнической общностью и фиксировавших в далеком прошлом общие этнокультурные корни (ветви тунгусо-маньчжурского анклава – маньчжуров и эвенков, равно как и северная ее часть), в своих представлениях о мироздании выделяют в разных вариациях мифологему о происхождении вселенной как присутствие изначальной категории воды и двух птиц на ней (поздний вариант – два брата). Опять же достается со дна кусочек земли, которая «вытягивается» в достаточно большое земное пространство. Позже шаманские космологические и космогенетические мифологические представления древних тунгусов фиксируют их расселение по берегам таежных рек. Возможно, поэтому предпочитаемая ориентация в мифологическом пространстве трехмерного мира (верхний, средний и нижний) на восток, юг и юго-восток прежде всего зависела от течения основной реки, по которой происходило их расселение в тайге1.
По представлениям монгольских народов, как мы уже неоднократно упоминали в своих работах, Земля имеет округлую форму диска (иногда –ква-дратную) и располагается на спине/брюхе гигантского водяного животного – черепахи или лягушки. Если в миропонимании некоторых представителей монголосферы мыслился квадрат, то лапы мифологизированного гиганта соответствовали сторонам света. Иногда это водяное животное «держит на себе мировую гору»2.
Более архаичные представления о картине мира у большей части бурят фиксируют также очень квалифицированные исследования С.Ю. Неклюдова. В его материалах Землю на своей спине держит огромная рыба ( Абарга Загахан – бурят.; Аврага Загасан – монг.; Аварга Загсн – калм.). По мнению Сергея Юрьевича, «подобные персонажи (как автохтонные, так и заимствованные), дополняющие статическую картину мира, частично утратив свое более древнее значение, образуют группу мифологических “гигантов”, “властелинов”, могущество которых выражается прежде всего в необыкновенных размерах (мировая гора и мировое древо тоже рассматриваются как дерево-гигант и гора-гигант)»3. Здесь необходимо подчеркнуть, что явно выраженные характеристики отдельной/автономной сакрализации феномена Воды монголо-сферой четко не выражены. Сопутствующим сочетанием этого феномена является, как правило, Земля – « Газар усуны эдзет хат » (хозяева земли и водных пространств), что упоминается еще в «Сокровенном сказании». Однако в традиционной религиозной культуре все же присутствовали отдельные эдзены рек, водоемов и водных пространств – Усны лусуд (монг.), Уhа Лосон, Уhа Лусан (бурят.), Усун хадын эзэн (калм.), которые почитались как хозяева рыб и духи речного промысла, хотя рыбный промысел не был широко распространен в социуме монгольских народов.
Неоднократно подчеркивая единые этнокультурные истоки религиозных традиций насельников Центральной Азии – тибетских, монгольских, а также тюркских и тунгусо-маньчжурских этносов и этнических групп, обратимся к тибетской традиции сакрализации Воды. Феномен «Лу» практически является аналогией монгольских эдзенов. Согласно тибетской мифологической традиции, «Лу» (те, кто плавает в воде и ползает по земле – тибет.) вылупились из шести яиц, «отложенных золотой космической черепахой, и представляются существам и с телом змеи и головами рыб, лягушек, головастиков, змей и др.
При этом Лу «ведают погодой, насылают засуху, проливные дожди, мороз, охраняют полезные ископаемые; насылают болезни на людей и животных»1. При засухе во времена религиозной традиции Бон и позже – буддийских практик тибетцы обносили поля как бонскими книгами Лубум, так и томами буддийского Канона2.
В монгольской мифологии Лу – дракон (от древнеуйгурского – луу) , курирующий всю водную стихию и управляющий молнией и громом. В поверьях монгольских народов существует множество лу: лусы, лусад, ассоциированные не только с духами – хозяевами водоемов, но и горами, урочищами и прочими земными объектами. Согласно монгольским поверьям, сохранившимся вплоть до наших дней, первый лусут Луван Луин Джалбо (тиб.), Нагешвара раджа (санскр.) – «владыка змей» вылупился из змеиного яйца в виде дракона, но «оставаться им не пожелал» и был представлен небожителями как «управляющий всеми водами на земле и ханом 77 царств лусутов». Вскоре потомки Луван Луин Джалбо заселили все озера, ручьи, колодцы и другие водоемы тибето-и монголосферы. Кстати, нумерология числа 77 в тибетской и монгольской мифологии связана с множественностью земных духов, земных слоев и областей, в отличие от числа 99 – существ и субстанций, относящихся к небесной мифологии. Во временнóм аспекте в контексте своей эволюции символ «Лу» трансформируется в символ ездового животного громовержца, но опять же в виде дракона или дракона, воплощающего грозу и дождь, который зимой спит либо под землей, либо на дне водоема, отдав бразды правления на это время лусутам. Связь между грозой, водоемом, нижним миром фиксируют и калмыцкие народные сказки. Однако только в бурятской мифологии прослеживается деление лусов на женские и мужские3. Трансформированный и буддизирован-ный феномен луса встречается также в мифах монгольских народов в виде хто-нического чудовища, олицетворяющего хаос, «источающего яд», грозящего гибелью и разрушениями. С.Ю. Неклюдов констатирует, что в одном из монгольских мифов буддийское божество Очирвани, приняв облик птицы Гаруды, «вытаскивает змея Лосуна из океана, трижды оборачивает его вокруг мировой горы Сумеру, а голову придавливает к вершине камнем, оставив хвост в воде»4. Персонаж Хухэдей-Мэргена (бурят.), мифологического «небесного стрелка» (монг. – Кокодэй; калм. – Кокэдэ), в процессах сакрализации воды замечен лишь фрагментарно в роли громовержца5.
В пантеоне буддийских практик также экспонируются змееподобные полубожества (индийского происхождения), связанные с феноменом воды, – наги, обитающие в воде (реках и морях) и на суше. По версии известного буддолога Леннарта Мялля, наги благосклонны к буддизму и часто «выступают его горячими приверженцами». Сам Будда, по мнению Л. Мялля, несколько раз перерождался в образе нага. А в мифологии традиции Махаяны одна из джатак гласит, что Нагарджуна добыл сутру «Праджняпарамита»
у нагов, которая ими охранялась до тех пор, «пока люди не созрели до ее понимания»1.
Идея сакрализации воды также прослеживается в обрядах монгольских народов, совершаемых при дожде и громе. При рассмотрении обрядов и обычаев, совершаемых при дожде, особо выделим те, которые совершались при громе до ХVII в. и на которые впоследствии наложился военный культ Далха. Культ Далха является практически чисто буддийским, однако мы рассматриваем его потому, что структура, обрядовые действия и многие его компоненты позволяют предположить, какие обряды и культы, связанные с дождем и громом и полагаемой опасностью для монгольского социума грозных раскатов грома («небо сердится»), он так успешно инкорпорировал. Анализируя более поздние буддийские вариации культа Далха, мы предприняли попытку реконструировать ранние его формы, выявили некоторые его этнодифференцирующие особенности у монгольских народов и проследили динамику его исторических изменений среди различных родов. Отправляя культ Далха, строили ограду. Бревна могли быть расположены как вертикально, так и горизонтально. Обряд возглавлял, как правило, тайчжи. Использовали и девять белых коней, на них восседали девять всадников в белых одеждах. В качестве жертвоприношений использовали молоко, кумыс ( айраг ), хурут, сыр ( бяслаг ) и другую молочную пищу. Истоки обряда уходят в далекое прошлое, связанное с почитанием Неба, которое приносило дождь при грозе (позитивный момент) и раскаты грома (негативный аспект). Во всех перечисленных вариациях отмечены архаичные моменты: число 9 во многих традициях фиксируют как связанное с небом. Здесь же это просматривается наиболее отчетливо, особенно в варианте, где имеется «представитель» неба – человек из рода тайчжи. Во всех вариантах присутствует тема грома – стрельба из ружей, тема молнии – стрельба из луков по четырем сторонам света. Небезынтересна и тема жертвы. В первом случае – это реальная жертва (умерший от молнии человек), в остальных – умилостивительное жертвоприношение молочной пищей направлено на то, чтобы жертвы не было. Дерево, деревья, столб, очевидно, являются связующим звеном между людьми и тэнгэри. Через дерево (деревья, столбы) осуществляется связь рода (или отдельной семьи) с тэнгэри; стрельба – имитация грома, являющегося одним из атрибутов неба, видимо, призвана усилить эту связь. Стрелы-молнии, посылаемые по четырем сторонам света, как «грозный признак неба» призваны отогнать злых духов от места отправления обряда. Вероятна и более простая интерпретация обряда: натурально (стрельба – гром, стрелы – молния) воспроизводится представление о небе, а белый цвет и белая молочная пища способствуют достижению его благосклонности [Абаева 2018: 300-315]. Полевые исследования в Монголии показали, что обряды даллага дэгдээх , тэнгэри дэгдээх , инкорпорированные в Бурятии культом Далха, не имеют ничего общего с буддийским культом. В Монголии они иногда носят название аянга дэгдээх – почитание молнии, что вполне отражает их содержание [Абаева 2018]. В честь Далха читается сутра на тибетском языке. Тибетский вариант внешнего облика Далха – всадник на белом коне, сопровождаемый восемью спутниками-братьями, также сидящими на белых конях. Над головами у них летит птица, следом бежит собака2. У ойратов Западной Монголии также фиксируется обряд поклонения Далха.
Далха в Монголии ассоциируется и с божеством войны. Некоторые информанты называют его Дайсны тэнгэр – божество войны, хотя классическими покровителями военных считались Багатур-тэнгэри, вселявший мужество в воинов, Дайчин-тэнгэри – ему приносили в жертву пленных и приписывали победу. На генетическую связь культа Далха не только с небом (с дождями, грозами и громом), но и с культом предков указывают прежде всего классические памятники монгольской литературы – «Сокровенное сказание» и «Алтан-Тобчи».
Казалось бы, что феномен сакрализации воды как отдельный культ или обряд присутствует в контексте многочисленных «аршанов » – в водных лечебницах, бальнеологических курортах и просто отдельных местных водных источниках, обладающих теми или иными лечебными возможностями. Однако все эти водные источники расположены у подножия гор, имеющих своих «хозяев». Соответственно, подношения имеют комплексный характер. Популярный среди монгольских народов термин и феномен «аршан», кстати, возник из-за большой популярности индийской джатаки «Капля Рашияны, питающая мир», имевшей хождение среди монгольских народов в период распространения буддизма.
Известно, что самой популярной горной вершиной во всех монгольских сакральных традициях по мере эволюции их религиозной культуры выступает гора Сумеру (Меру). Согласно Мэргэн гэгэну и Номун хану, гора Сумеру окружена семью горами и семью океанами, четырьмя большими и восемью малыми частями света, а наша земля – Джамбудвипа, по утверждению автора, составляет только одну из четырех больших частей света и расположена в восточной части горы Сумеру. Следует отметить, что идеи и теоретические аспекты Джамбудвипы могут одновременно выступать комплексно, а иногда и векторно, поскольку исторически, генетически и территориально она воспринималась буддийскими адептами Центральной Азии как единый и целостный конфессиональный феномен. В пределах сансарического существования существа верхних миров для представителей монгольских народов в контексте буддийской практики в основном не имеют особой повседневной важности, однако в контексте довольно трудного кочевого образа жизни они являлись объектом почитания и жертвоприношений.
Мифическая гора Меру с ее многослойным и сложным окружением (горы, океаны и материки) в повседневной жизни монгола-степняка играла немаловажную роль, поскольку она ассоциировалась со всеми почитаемыми ими сакральными субстанциями – не только землей, но и водой, воздухом, огнем и горными ландшафтами. Летопись «Алтан тобчи» Мэргэн гэгэна свидетельствует: «Из пара [выделяющегося] при соединении четырех сфер – воздуха, огня, воды и земли [dorben mandal] – образовалось скопление облаков в светлом космосе. От него пошли дожди, и тогда четыре сферы [элемента] смешались и растворились вместе. Когда же вода отстоялась, появилось внешнее море. В результате движения ветра заволновалась морская вода. От ее всплеска стали скапливаться соки – драгоценности элементов, из которых образовалась гора Сумеру [гора Меру]» [Миндол Номун хан 2016: 111-112; Балданжапов 1970: 70].
Анализ мифологических представлений монгольских народов о структурном ядре Джамбудвипы в контексте сакрализации воды фиксирует наличие в их среде уникальной этнокультурной специфики выявления иерархических мотиваций и аксиологических ценностей, обусловленных спецификой мифологических и религиозных представлений, возникших в период адаптации буддизма. Буддийские космогенетические смыслы о феномене Воды в контексте идей о Джамбудвипе адаптировали этот уникальный культ монгольской метаэтнической общности и, трансформировав его, обусловили в какой-то степени функционирование чисто монгольского природного культа воды и ее сакрализации как непосредственно монгольского этнокультурного и этнокон-фессионального феномена.
Статья подготовлена по государственному заданию отделу философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН по проекту «Трансформация направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями России, Центральной и Восточной Азии с периода распространения буддизма до современности (Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия – ХVI–XXI вв.)».
Список литературы Феномен сакрализации воды в религиозных доминантах монгольских народов
- Абаева Л.Л. 2018. Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских традиций. Улан-Удэ: Буряад-Монгол ном. 368 с.
- Абаева Л.Л. 2022. Феномен сакрализации Земли в религиозных доминантах монгольских народов. - Власть. Т. 30. № 3. С. 265-271.
- Балданжапов П.Б. 1970. "Алтан Тобчи" - монгольская летопись XIII века. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 400 с.
- Рыбаков Б.А. 1981. Язычество древних славян. М.: Наука. 607 с.
- БНМАУ-ын угсатны зуй. 1987. 1 боть. Улаанбаатар. Шинжлэх Ухааны Академи. 432 с.
- Миндол Номун хан IY Данзанпэрэнлэй. - Омнох замбутивийн байцыг дэлгэр номлосон тодорхой толь. 2016. Улаанбаатар. 2016. 305 х.