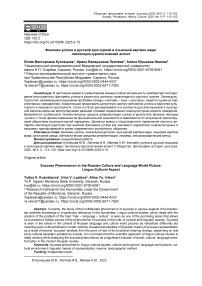Феномен успеха в русской языковой и культурной картине мира: лингвокультурологический аспект
Автор: Кузнецова Ю.В., Лаптева И.В., Ивлева А.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время в гуманитарном знании особую актуальность приобретает исследование многогранного феномена успеха в различных аспектах гуманитарного научного знания. Лингвокультурология, занимающаяся решением проблемы триады «человек – язык – культура», видится одним из перспективных направлений, позволяющих представить целостную картину феномена успеха в единстве культурного и языкового пространств. Успех в статье рассматривается в контексте русской языковой и культурной картины мира как артикулируемая разными словами нормативная социокультурная модель поведения. Выявляются особенности лингвистических средств репрезентации успеха в результате анализа лексемы «успех» с точки зрения изменения ее функциональной значимости в зависимости от актуальной транслируемой обществом социокультурной парадигмы. Делается вывод о плодотворности применения научного аппарата лингвокультурологии при анализе феномена успеха как значимого индикатора социокультурных и языковых трансформаций в жизни современного российского общества.
Феномен успеха, лингвокультурология, культурная картина мира, языковая картина мира, культурная среда, лингвистические средства репрезентации, лексема, лексикографический метод
Короткий адрес: https://sciup.org/149149084
IDR: 149149084 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.9.15
Текст научной статьи Феномен успеха в русской языковой и культурной картине мира: лингвокультурологический аспект
Введение . Современное культурологическое знание в рамках антропоцентрической парадигмы развивается во многих направлениях, приобретая междисциплинарный характер и расширяя проблематику исследования на смежные научные сферы (психологию, философию, культурологию, лингвистику, социологию, этнографию и др.). Появление такой области, как лингвокуль-турология, позволяет углубиться в изучение языковой репрезентации суждений о том или ином явлении в картине мире представителей определенной культуры. Данные направления (культурология и лингвистика) тесно пересекаются и занимаются решением проблемы триады «человек – язык – культура», сформулированной выдающимся лингвистом ХХ в. Э. Бенвенистом, который расширил контекст исследования языка, введя в него сферу культуры (1974: 45).
Проблема отражения в языке культурного своеобразия народа в виде концептов – ментальных образований представлена в работах отечественных лингвистов и лингвокультурологов: Н.Д. Арутюновой, С.Г. Воркачева, В.В. Воробьева, А.А. Зализняк, Ю.Н. Караулова, В.В. Красных, В.И. Карасика, В.А. Масловой, Д.С. Лихачева, Б.А. Серебренникова, Ю.С. Степанова, В.Н. Телии, С.Г. Тер-Минасовой, А.А. Уфимцевой и др.
Одним из направлений лингвокультурологии является изучение национальных концептов русской культуры в диахроническом аспекте (А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, А.А. Зализняк, В.В. Красных, Ю.С. Степанов, А.Д. Шмелев), таких как судьба, любовь, добро, зло и т. п. Особое место среди такого рода концептов русской языковой картины мира занимает успех, представляющий собой специфический социокультурный маркер, который связан с психологическим переживанием успеха человеком (Г.В. Бакуменко, Н.С. Головчанова, Е.В. Карханян, Н.И. Нефедова, А.М. Рикель, Н.В. Розенберг, М.В. Теплинских, Г.Л. Тульчинский и т. д.) и затрагивает смысловой пласт личности (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, А. Лэнгле и т. д.).
Концепт «успех» находит воплощение в русской языковой картине мира человека и рассматривается в аспекте лингвистических средств репрезентации (О.Н. Лагута, В.Н. Мерзлякова, Т.Г. Нестерова, Н.Р. Эренбург). Актуальность подобных исследований связана с тем, что в России концепт «успех» стал особенно актуальным в связи с важными изменениями на рубеже XX– XXI вв. ввиду активного развития рыночных отношений, влияния западных ориентиров, распространения индивидуалистических ценностей и культуры потребления. Данные обстоятельства способствовали тому, что понятие «успех» приобрело новое семантическое содержание.
Таким образом, можно утверждать, что концепт «успех» значимо представлен в русской языковой и культурной картине мира человека и исследуется в аспекте различных средств ее репрезентации.
Методы исследования . В ходе изучения феномена успеха в культурной и языковой картине мира применялись общегуманитарные и специализированные методы, в том числе интегративный метод, позволивший использовать научные знания в таких областях, как культурология, лингвистика, лингвокультурология, психология, для решения поставленных в работе задач. Для анализа специфических черт феномена успеха в названных контекстах применялись культурно-исторический и лингвокультурологический методы. В аспекте выявления лингвистических средств репрезентации понятия «успех» задействован лексикографический метод.
Соотношение культурной и языковой картин мира . Мотивационные модели деятельности человека формируются в культурной среде. В данном случае культура понимается известным исследователем в области лингвокультурологии В.В. Красных (2013: 124), вслед за Ю.М. Лотманом, Б.А. Успенским, Я. Ассманом, В.Н. Телией и их последователями, как ненаследственная память коллектива (Лотман, Успенский, 1971: 147); некоторое пространство общей памяти, в пределах которого могут сохраняться, актуализироваться и в определенном смысле воспроизводиться общие тексты, общие феномены, общие смыслы (Лотман 1992); некоторое «знание», которое регулирует деятельность человека, управляет переживаниями, действиями, всей жизненной практикой людей в рамках общения и взаимодействия в социальных группах, включая общество в целом (Ассман, 2004); мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой (Телия, 1996). Культура же, по мнению В.В. Красных, воплощается и закрепляется в знаках живого языка и проявляется в языковых и речевых процессах, представленных в языке и через язык (Красных, 2013: 123). Поскольку в системе языковых знаков моделируется, отображается бытие человека в социуме, язык служит средством, позволяющим усвоить те или иные модели поведения, а также транслировать их окружающим.
Языковая природная составляющая характерна для сознания индивида. По мнению А.Н. Леонтьева (1994: 35), «иметь сознание – владеть языком. Владеть языком – владеть зна- чениями. Значение есть единица сознания» (имеется в виду языковое, вербальное значение, сознание при этом понимании является знаковым). Данную мысль развивает С.Л. Рубинштейн: «Не слово само по себе, а общественно накопленные знания, объективированные в слове, являются стержнем сознания»1.
А.А. Леонтьев, базируясь на рассуждениях более ранних исследований, пишет (2016: 297): «Если понимать язык как единство общения и обобщения, как систему значений, выступающих как в предметной, так и в вербальной форме существования, то “языковое сознание”, сознание, рассматриваемое как опосредованное значениями, оказывается близким к тому пониманию, которое современная советская психология вкладывает в понятие “образа мира”» в современной российской психологии. Картина мира определяется как «отображение в психике человека предметного мира, опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии». Наполненный личностными смыслами образ мира содержит общую для всех членов социума культурную константу, что составляет систему инвариантных образов мира, имеющую общие черты с картинами мира других людей.
У носителей конкретного языка существуют общности смыслов языковых знаков, из чего следует способность языковых знаков, которые в качестве воспринимаемых физических феноменов сами по себе ничего не значат, вызывать в сознании коммуникантов сходные представления о том или ином предмете или явлении (Дарбанов, 2010: 298; Тарасов, 1975: 153). Можно утверждать, что в процессе освоения языка и вхождения человека в пространство культуры посредством освоения различных ее атрибутов, например пословиц, поговорок, музыкальных, литературных произведений, кинематографа и т. п., возникают модели поведения и картины мира, свойственные всем представителям общности.
Впервые термин «картина мира» прозвучал в трудах австрийского исследователя Л. Витгенштейна, который признан основоположником современного базового классического понимания картины мира как модели действительности. По мнению мыслителя, всякая картина мира представляет результат деятельности личности, которая логична и способна отобразить окружающий мир. Важно отметить двойственность функции картины мира: с одной стороны, она является источником информации для окружающих, с другой – выступает как система представлений самого человека (Витгенштейн, 1994).
В когнитивной лингвистике картина мира рассматривается как упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном (а также в групповом, индивидуальном) сознании (Попова, Стернин, 2007: 51). Картина мира проявляется и реализуется в своеобразной форме – знаках языка, составляющих языковую картину мира человека. По мнению А.А. Зализняк, каждый говорящий на определенном языке разделяет «совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка» (Зализняк и др., 2005: 9). Исследователь отмечает, что такие представления как ключевые идеи связываются в языковой картине мира, представляющей собой систему концептов, состоящих в лингвоспецифичных словах, свойственных конкретному языку. Это определение согласуется с мыслью Ю.Н. Караулова, который считал, что в общем виде под языковой картиной мира следует понимать взятое в своей совокупности все концептуальное содержание данного языка (2010: 172).
При изучении ментальных образований в языковой картине мира важно учитывать культурную специфику языка. А.Д. Шмелев считал, что для понимания русской культуры, а именно представлений о мироздании, характерных для носителей русского языка и русской культуры и понимаемых ими как саморазумеющееся, нужно исследовать семантическое значение языковых единиц, в которых данные представления находят отражение. Идея специфичности каждого языка в отношении концептуализации мира берет начало у В. фон Гумбольдта, а затем получает развитие в популярной гипотезе, выдвинутой Э. Сепиром и Б. Уорфом, смысл которой в том, что язык является определяющим фактором мышления и формирует способ познания реальности. Однако, как отмечает А.Д. Шмелев, в настоящее время эта концепция становится особенно актуальной и многие исследования лексической семантики позволяют сделать вывод о лингвоспецифичности лексических единиц, чье смысловое наполнение соответствует «представлениям, которые традиционно принято считать характерными именно для “русского” взгляда на мир» (Шмелев, 2002: 13).
Успех в контексте русской культурной и языковой картины мира. Понятие успеха является одним из основополагающих и знаковых в русской языковой и культурной картине мира. Н.Р. Эренбург отмечает, что на рубеже XX–XXI вв. концепт «успех» ярко отразил все происходящие важные ментальные и психологические трансформации в российском социуме2. Данные процессы активно проявились в языке средств массовой информации (телевидения, печатных изданий и т. п.), рекламных текстах, разговорном дискурсе, современном искусстве и сфере шоу-бизнеса. Т.Г. Нестерова подчеркивает, что российское общество переживает множество экономических, социально-политических изменений, находящих отражение в языке, в том числе семантическом содержании концепта «успех», характерном для русской языковой картины мира (Нестерова и др., 2019: 1). Это подтверждает и В.Н. Мерзлякова, говоря о том, что культурный и исторический контексты меняют смысловое содержание феномена успеха; при этом слово «успех», будучи ключевым, связано со множеством других слов, поэтому сфера значения данного концепта очень широка (2010: 91).
На основе обзора содержания феномена успеха можно заключить, что успех является устойчивой мотивацией деятельности человека, неразрывно связанной с тем, как он транслируется социальными институтами в качестве одобряемой модели поведения. Поэтому само явление успешности часто артикулируется разными словами, значение которых меняется с течением времени.
Особенности лингвистических средств репрезентации понятия «успех» . Особую актуальность рассматриваемая категория в русской языковой картине мира приобрела на рубеже XX–XXI вв., что подтверждают данные о частотности употребления словоформ слов «успех», «успешный» во всех нехудожественных текстах Национального корпуса русского языка. Действительно, активное повышение частотности употребления слов «успех», «успешный» фиксируется после 1992 г., т. е. с начала новейшей истории России после распада СССР.
Однако само употребление слова «успех» наблюдается еще в старославянском языке. В этимологическом словаре русского языка Г.А. Крылова понятие «успех» изначально определяется как «то, что смогли (успели) сделать»1.
Семантическую и этимологическую связь понятия «успех» с глаголом «успеть» и словом «спешка» отмечает А.А. Зализняк (Зализняк и др., 2005: 319). Однако на сегодняшний день семантическое содержание лексемы «успех» значительно отдалилось от глагола «успеть»; теперь успех понимается в контексте времени, возможности что-то сделать в срок. Однако термин сохраняет в семантике значения пользы и положительного результата и, как отмечает О.Н. Лагута, обогащается идей труда и активной деятельности с помощью глаголов «добиться», «достигнуть», в чем воплощается «отголосок прототипического образа передвижения (человека) в пространстве…» (Лагута и др., 2006: 49).
Аккумулируя семантическое наполнения лексемы «успех» в XX–XXI вв. в русском языке, Н.Р. Эренбург выделяет ряд компонентов: положительный результат какой-либо деятельности; удача в достижении чего-либо; общественное признание, одобрение; хорошие результаты в учебных занятиях, достижения в освоении, изучении чего-либо2. Среди лексем автор выделяет следующие: благоприятный исход, победа в каком-либо сражении, поединке; интерес, влечение со стороны лиц другого пола3. Таким образом, можно отметить, что лексема «успех» прошла путь развития в русском языке, ее употребление показывает расширение функциональной значимости, семантической структуры, связи с рядом других слов.
Стоит обратиться к ассоциативно-вербальному словарю, который включает ассоциативновербальную сеть, т. е. совокупность информации в виде трех составляющих: анкета – статья – словарь. Данный словарь отличается от этимологического тем, что позволяет сделать выводы об актуальных установках конкретного языкового коллектива. Н.Е. Кожухова говорит, что «ассоциативно-вербальные сети есть способ существования языка в индивиде, что связи между словами устроены так, чтобы обеспечить непосредственно переход от одного слова к любому другому. В ассоциативно-вербальной сети семантическая связность столь велика, что каждый элемент в ней, каждое слово связано с каждым другим либо прямой, либо обратной непосредственной семантической связью» (Кожухова, Аксенова, 2015: 258). По данным русского ассоциативного словаря, наиболее частотными реакциями респондентов на понятие «успех» являлись слова с положительными значениями, например радость, счастье, слава, удача, огромный, удачный и т. п.4
Массовый ассоциативный эксперимент жителей Томской области был проведен в 2001– 2002 гг. А.В. Рябовым и Е.Ш. Курбангалеевой (Базовые ценности…, 2003: 164–181). Основные ассоциации к слову «успех» связаны с положительными эмоциями (счастьем, радостью, удовлетворением, восторгом, наслаждением, удовольствием). На втором месте в иерархии находится удача, на третьем – работа и труд. Авторы отмечают, что работа для респондентов является главным путем к успеху. Также выделяется существенная по количеству упоминаний группа ассоциаций, включающая реакции «деньги», «достижение», «слава». Хотя исследование было проведено в одном регионе России, оно демонстрирует общекультурную парадигму страны и может, несмотря на некоторую специфику, дать представление об изменении семантического содержания феномена успеха в диахроническом аспекте.
Можно предположить, что связь успеха с материальным достатком на рубеже XX–XXI в. подтверждается данными ассоциативных экспериментов: если в 80–90-х гг. XX в. ассоциация «деньги» в ответ на стимул «успех» среди всех ответов носила единичный характер, то уже в начале 2000-х гг. стала занимать существенную долю в ответах респондентов. Как отметила А.В. Сергеева, «все больше россиян сейчас признают, что “богатым быть не зазорно”, и даже наоборот: все чаще деньги в России становятся мерилом успеха в жизни, даже ключом к такому успеху. Все тайно или явно хотят разбогатеть» (2006: 253).
Отдельно стоит обратить внимание на историческую специфичность концепта «успех» в русской культурно-исторической традиции в сравнении с американской. Необходимость данного сопоставления обусловлена уже упомянутым влиянием западной культуры на русскую ввиду социально-экономических трансформаций 1990-х гг. и актуализацией феномена успеха, получившего новое семантическое наполнение в данный период. Этот взгляд разделяет Е.Ю. Мирошина, говоря о том, что «сегодня на наше восприятие и понимание успеха влияет пропаганда американских ценностей, где стремление к успеху становится одним из главных аспектов национальной философии…» (Мирошина и др., 2017: 417).
В русской культуре до 2000-х гг. понятие успешности не имело самостоятельного определения; прилагательное «успешный» и существительное «успешность» практически не сочетались с субъектом деятельности и скорее отражали процесс или результат работы. Особую роль в развитии данной языковой нормы сыграла военная тематика. В.Н. Мерзлякова отмечает, что в лингвистическом ключе успех рассматривается с точки зрения действий субъекта, которые могут быть направлены на достижение социального признания или обретения властных полномочий (2010: 88).
Несмотря на обозначенное воздействие западной культуры на концептуальное содержание феномена успеха, в русской традиции он отличается лингвоспецифичностью по сравнению с аналогичной лексемой success в американской культуре. В русской культуре, как уже показано ранее, лексема «успех» связана с глаголом «успеть», поспешностью и скоростью, например словосочетание «с успехом» в смысле легкости достижения результата. Кроме того, в современных толковых словарях русского языка, как ранее обозначено, успех связан с признанием со стороны окружающих.
В американской культуре, как отмечает А.А. Андриенко, в словарях не отражена сема «легкость выполнения действия», однако проявляется новое смысловое наполнение, отсутствующее в источниках русского языка: понимание успеха как обладания богатством и достатком1.
Однако, как указывают З.Д. Попова и И.А. Стернин (2007), значение слова можно рассматривать двойственно: в лексикографическом (анализ словарей) и психологическом (психолингвистический эксперимент) аспектах, имеющих отношение к сознанию носителя языка и его языковой картине мира. Это подтверждает и Н.Р. Эренбург, говоря о том, что исследование словарного значения слова ограничивает его восприятие, игнорируя важные проявления его реального функционирования в речи2. Значение понятия «успех» в психолингвистике дает возможность его толкования в наибольшей полноте и связи с сопутствующими семантическими признаками и являет собой «упорядоченное единство» всех семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка (Попова, Стернин, 2007). Это тот объем семантических компонентов, который актуализирует изолированно взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех образующих его семантических признаков – более или менее ярких, ядерных и периферийных. «Психолингвистическое значение структурировано по полевому принципу, а образующие его компоненты образуют иерархию по яркости» (Попова, Стернин, 2007: 97).
Таким образом, для адекватного восприятия концепта успеха в русской культурной и языковой картине мира необходимо учитывать как культурологический аспект, так и лингвистический, включая лексикографический метод. Научный аппарат линговокультурологии в данном случае представляется наиболее перспективным, а возможно, и единственно приемлемым, позволяющим представить целостную картину феномена успеха, рассматривая его в едином культурном и языковом пространстве.
Заключение. Обобщая результаты исследования, можно отметить, что в процессе социализации человек усваивает концептуальную систему – проявление языка в картине мира человека. Феномен успеха как смыслообразующий и имеющий отношение к деятельности, ее результатам, внутренним и внешним детерминантам, т. е. как переживание успеха, так и его включенность в общественные отношения, находит воплощение в языке посредством концептуальных систем, меняющихся в зависимости от культурного и социального опыта человека. Ментальные особенности, воплощенные в языке, содержат усвоенный опыт, обладающий характеристиками одновременно статичности и динамичности, так как концептуальная система не только закрепляет понятия, но может дополняться и расширяется в диахроническом аспекте, непрерывно включая новые семантические оттенки.
Особую значимость приобретает исследование феномена успеха в русской языковой картине мира в связи с социально-экономическими и политическими трансформациями на рубеже XX–XXI вв. и повышением влияния западной культуры на процесс социализации россиян. Данное воздействие не могло не отразиться на концептуальном содержании категории.
Поскольку успешность во многом является отражением социальных моделей поведения и социокультурных паттернов, она становится важным ценностным ориентиром для членов общества. Как мы уже отмечали, «внешняя среда, транслируя определенную культурную парадигму и таким образом регулируя и координируя деятельность людей, призвана задавать мировоззренческие и ценностно-нормативные рамки, способствующие гармоничной интеграции личности в социум» (Кузнецова и др., 2024: 131).
Реальное воплощение языковой картины мира возможно рассматривать только с учетом лингвистической составляющей значения, показывающей изменения ментальности народа, позволяющей выявить актуальное семантическое содержание языковых единиц. Таким образом, применение методов лингвокультурологии для дальнейшего изучения различных аспектов феномена успеха как значимого индикатора социокультурных и языковых трансформаций в жизни современного российского общества представляется в настоящее время перспективным и крайне актуальным.