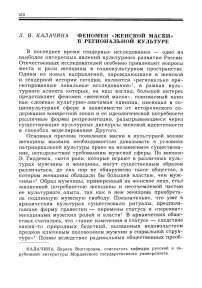Феномен "женской маски" в региональной культуре
Автор: Калачина Лариса Викторовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные выражения «женской маски» как сложной культурной единицы, функционирующей в региональном культурном пространстве.
Короткий адрес: https://sciup.org/147223021
IDR: 147223021
Текст научной статьи Феномен "женской маски" в региональной культуре
В последнее время гендерные исследования — одно из наиболее интересных явлений культурного развития России. Отечественных исследователей особенно привлекают вопросы места и роли женщины в социокультурном пространстве. Одним из новых направлений, зарождающихся в женской и гендерной истории сегодня, являются «регионально ориентированные локальные исследования»1, в рамках культурного аспекта которых, на наш взгляд, большой интерес представляет феномен «женской маски», понимаемый нами как сложная культурно-значимая единица, имеющая в социокультурной сфере в зависимости от исторического содержания конкретной эпохи и ее идеологической потребности различные формы репрезентации, разыгрывающиеся через существующие культурные дискурсы женской идентичности в способах моделирования Другого.
Основная причина появления маски в культурной жизни женщины вызвана необходимостью доказывать в условиях патриархальной культуры право на независимое существование, неподвластное требованиям мужской сферы. По мнению Э. Гидденса, «хотя роли, которые играют в различных культурах мужчины и женщины, могут существенным образом различаться, до сих пор не обнаружено такое общество, в котором женщины обладали бы большей властью, чем мужчины»2 Образ мужчины, примеренный на женское лицо, стал жизненной потребностью женщины и неотъемлемой частью ее культурного опыта, так как в нем женщина приобретала подлинную мужскую свободу. Показательно, что уже в архаических культурах существовали ритуалы, предполагавшие форму травестии — перемены статуса и «перехват» женщинами мужских ролей и власти3 В архаических обществах считалось, что «такие изменения в статусе — следствие каких-то природных бедствий, вызванных недовольством предков ключевым положением мужчин в социальной структуре»4 Позже вследствие радикальных общественных преоб-
КАЛАЧИНА Лариса Викторовна, соискатель кафедры русской и зарубежной литературы Мордовского государственного университета.
разований выход женщины в качестве яркой карнавальной фигуры на авансцену мужского мира стал возможным не только в праздничной, но и повседневной жизни.
Переодевание женщины в мужскую одежду повлекло за собой и присвоение воинственного поведения. В связи с этим показательна личность Алены Арзамасской (Темниковской), сыгравшей с искусным мастерством роль мужчины-воина, соратника Степана Разина, русской Жанны д’Арк в период крестьянского восстания 1699 г., ставшего самым мощным движением «бунташного века». Ценный рассказ о ней сохранился в «Поучительных досугах» И. Фриша: «Через несколько дней после (казни Разина) была сожжена монахиня, которая, находясь с ним (заодно), подобно амазонке, превосходила мужчин своей необычной отвагой»5 Однако героический пример Алены Арзамасской далеко не единичен. Первая мировая война явила миру в образе храброго солдата-фронтовика по прозвищу Яшка крестьянку из Новгородской губернии М. Л. Бочкареву, сформировавшую в июне 1917 г. в предреволюционном Петрограде «Первую женскую военную команду смерти», члены которой эпатировали мужские воинские формирования изображением черепа со скрещенными костями на фуражках6 Следует добавить, что героические женские маски стали характерной приметой советской культуры, служившей инструментом воздействия на общество для решения идеологических задач. Культовый, визуальный образ героической женщины «Родина-Мать» был широко распространен в Великую Отечественную войну.
Другая модель женской маски, ставшая закономерным продолжением женской социокультурной практики игры в мужчину-воина, — фигура женщины-революционерки, появившаяся в конце XIX — начале XX в. и имевшая свой стиль поведения (от одежды, приближенной к мужскому типу, до партийных масок-псевдонимов), смысл которого состоял в конструировании модели личностного бытия, нацеленной на ощущение свободы. История региональной культуры этого времени знает немало примеров участия женщин в революционном движении. Так, в начале XX в. в г. Иваново-Вознесенске участницей революционных событий стала М. Ф. Икрянистова, носившая партийный псевдоним «Труба». Во время мятежа 1918 г. в с. Лада Саранского уезда жизнь за революцию отдала латышская коммунистка А. Я. Лусс.
Таким образом, женщина в образе мужчины представляет собой реализацию двоякой цели: с одной стороны, она доказывает равноправие полов в рамках социокультурного пространства, с другой — демонстрирует специфику женской сферы как определенной культурной традиции.
Однако женщина в качестве индивидуальной модели поведения избирала не только мужские, но и женский образы, примеряемые ею в различных жизненных ситуациях. Следует отметить, что долгое время стереотипы женского поведения регламентировались «Домостроем» — сводом житейских правил и наставлений, согласно которому женщина должна безукоризненно подчиняться мужу, предаваться молитве, молчанию, сторониться светских удовольствий. В итоге иноческий идеал стал для женщины «исключительным и самым высшим идеалом существования»7, домашнее устройство, в пределах которого она находилась, во многом подражало монастырю, а ежедневные молитвы, поездки по церквам и монастырям стали своеобразным ритуалом. В связи с этим женщина была вынуждена сознательно носить маску монахини.
Однако идеал монахини, утвердившийся в сфере эстетического сознания женской культуры, активно воздействовал на образ жизни женщины, придавая ему карнавально-масочный характер. Говоря словами Ю. М. Лотмана, женщина, ориентируя свое поведение на роль монахини, приравнивала «жизнь некоему импровизированному спектаклю»8 В связи с этим не удивляет и активное участие женщин в различных региональных мистико-религиозных сектах. К. Г. Юнг, анализируя роль тайных обществ, писал: «Нет лучшего средства защитить свое хрупкое и столь мнимое ощущение индивидуальности, нежели обладание некоей тайной... Там, где нет оснований хранить... тайны, изыскиваются „таинства”, к которым затем допускаются лишь избранные и „посвященные”»9 Так, в конце XVIII — начале XIX в. в Среднем Поволжье в деревенской среде возник феномен «беседничества», носивший характер мистико-религиозных собраний и ставший для женщин своеобразным «монашеством в миру». Происхождение «беседников» возводят к деятельности старца Василия Щеглова, ученика некогда известных «уренских барышень», сестер-помещиц Анны Андреевны и Дарьи Андреевны (их фамилия неизвестна). В 1854 г., после смерти старца, беседников воз- главила «тетушка Кузминишна» — его ученица А. К. Керова (в монашестве Мария), благодаря которой «беседничество» распространилось по всему Поволжью. В начале «беседки» А. К. Керовой посещались только женщинами: на них читались акафисты, святоотеческие творения и т. д. С распространением молвы о святости Керовой, которая «из святой великой подвижницы превратилась уже в „богородицу’', а потом и в „Бога Господа”», число ее последователей увеличилось10 Таким образом, А. К. Керова с определенной долей актерского мастерства носила маски Бога, Богородицы и человека, причисленного к лику святых. Следует отметить, что значение этих масок раскрывается в сакральном аспекте, так как они олицетворяют границу между естественным и сверхъестественным, указывая на связь реального мира с потусторонним. Маски, выполняя функции не личины, а лика, наделяют ее обладателя иллюзорной магической силой того или иного божества, выбранного в качестве второго «Я».
В истории региональной культуры случаи ношения женских масок, реализованных в сфере сакрального, далеко не единичны. В конце 40-х гг. XIX в. в с. Збурьевка Таврической губернии некая крестьянка Марьяна создала сектантскую общину благодаря случайно найденной в купленном ею доме доске с образом, о которой как чудесном сне она рассказала соседям-крестьянам, придавшим произошедшему характер мистико-религиозного события. Дело с иконой дошло до духовного начальства, распорядившегося доставить ее в Херсонский собор. Несмотря на то, что крестьянка лишилась святыни, ставшей популярной в народе, в среде сектантов женщина долго считалась святой, пока не была отдана под полицейский надзор. В 1895 г. в г. Ораниенбауме Петербургской губернии с участием М. И. Киселевой образовалась секта хлыстов-киселевцев, последователи которой почитали женщину за «госпожу не от мира сего», «Богородицу» Порфирию, «порфиру Царя царей», «непоколебимый столп Церкви» и признавали за «великую мученицу и праведницу»11
Истории региональной культуры известны и секты, отмеченные не столько религиозно-мистическим рвением, сколько стремлением к театрализованному представлению. Так, в 1817 г. в г. Петербурге возник сектантский кружок Е. Ф. Татариновой, известный в разное время под назва- ниями «Братства во Христе», «Союза братьев и сестер», «Духовного союза» и т. д. В нем участвовало до 70 чел. разного возраста, пола и социального положения. Вера посетителей была скорее не религиозной, а догматической: здесь совершалось богослужение по придуманным ритуалам, произносились пророчества под склад народных прибауток, читались молитвы, сочиненные образованными членами кружка. В 1826 г. союз Татариновой распался, а ее последователей разослали по монастырям.
Другое следствие ношения женщиной маски монахини — феномен юродства, занимающий промежуточное положение между смеховым миром и миром церковной культуры. Маска юродивого позволяет женщине скрывать свое настоящее лицо с помощью игры, дающей возможность рассмотреть иной вариант собственной жизни, создать реальность по модели личностного мироощущения. Говоря словами М. М. Бахтина, отстранение от мира есть в то же время «особый и оправданный вид причастности» к нему12 Своеобразный пример женского юродства, относящийся к XVIII в., — Ксения Петербургская. В 26 лет став вдовой, она раздала имущество бедным и в мужской одежде под именем своего покойного мужа странствовала по миру 45 лет. В это же время в с. Каменка Саратовской губернии была известна некая пророчица Устинья, жившая в огороде одного старообрядца и по местным слухам якобы имевшая дар предсказания, творившая чудеса и отгадывавшая воров. Ее действия походили одновременно на магические обряды и карнавальное действо: «пророчица являлась одетая вся в белом, подпоясанная розовою шелковою лентою и с распущенными волосами, перевязанными назади голубою лентою. Предсказывала она за столом с курящеюся ладоницею»13 Позже юродивая была уличена полицией в соучастии в воровских проделках.
Маска как одна из женских ипостасей нашла выражение в культурно-историческом феномене самозванства, означающем не только выбор лица определенного исторического или государственного деятеля, которое становится идеализированным двойником человека, но и приравнивание собственной жизни некоему театрализованному представлению, разыгрываемому по определенному сюжету. Так, в XVIII в. в Орловской губернии маску «Великой государыни Елиза- веты Петровны» носила скопческая «богородица» Акулина Ивановна (ее фамилия неизвестна). Кроме того, она имела приближенную, называвшую себя Е. Р. Дашковой. Однако то обстоятельство, что подлинная (несамозванная) Дашкова была приближенной не Елизаветы, а Екатерины II, лишь указывает на женскую маску. Другая «богородица» Анна Софоновна (ее фамилия неизвестна) именовала себя Великой княгиней Анной Феодоровной, супругой цесаревича Константина Павловича14 Следует отметить, что скопческие «богородицы» играли роль своеобразных приманок для вовлечения новых членов в секту, служили маскировкой самого факта существования скопческой общины в той или иной местности. В 20-е гг. XX в. на территории бывшей Российской империи после расстрела царской семьи ходили слухи о якобы спасенных ее членах. Например, в 1923 г. в Маровском женском монастыре Нижегородской губернии под видом молодой странницы появился некий Николай Бронников, вскоре объявивший себя цесаревичем Алексеем. Однако в 1925 г. после закрытия Маровской обители Бронникова, продолжавшего в целях безопасности рядиться в женское платье под именем сестры Акулины, взяли под арест органы ОГПУ. Освободившись в 1931 г., самозванец отправился в с. Лещ-Плота Курской области якобы навестить свою «бабушку» — монахиню Мавру Куликову, которую недовольные советской властью религиозные сельчане стали считать за императрицу Марию Федоровну, супругу Александра III. Через некоторое время в Прохоровском районе той же области некая Агриппина Гридасова, одна из знакомых Бронникова, предложила престарелой чернице С. К. Тишкавцевой войти в «царскую семью» под именем чудом оставшейся в живых жены Николая II — царицы Александры Федоровны. Маска «императрицы» дала возможность Тишкавцевой не только без разбора «щеголять» именами великих князей и «вспоминать», как ей жилось при дворе, но и жить без нужды в 30—40-е гг. XX в., пока самозванку не арестовали в 1945 г.15
Таким образом, женская маска, найдя свое место в региональной культуре, стала для женщины одним из элементов личностного мироощущения, своеобразным осознанием ею своего места в региональном историко-культурном процессе. Маска как особая форма бытия, отделяющая от реального мира и погружающая в вымышленный мир, дает возможность женщине на время забыть жизненные противоречия. Кроме того, женская маска — одно из проявлений мужского сознания, при этом она отражается не только на лице мужчины, но и в жестах, походке, голосе, т. е. во всем, что может приблизить его к личности женщины. Однако модель поведения возвращается к нормам официального мира, если происходит процесс «снятия» или «срывания» маски с женского или мужского лица.
Список литературы Феномен "женской маски" в региональной культуре
- Оффен К. Оглядываясь назад - размышляя о будущем: проблемы женской и гендерной истории после встречи в Белладжио (1989) // Гендерные истории Восточной Европы. Минск, 2002. С. 23.
- Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 164
- Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 246.
- Хренов Н. А. «Человек играющий» в русской культуре. СПб., 2005. С. 255.
- Алена Арзамасская - Википедия // Электрон, ресурс [режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki].