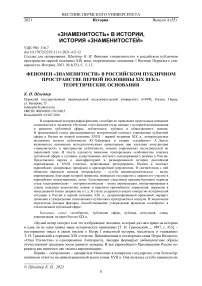Феномен "знаменитости" в российском публичном пространстве первой половины XIX века: теоретические основания
Автор: Шнейдер К.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Статья в выпуске: 4 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
В современной историографии феномен «селебрити» привлекает пристальное внимание специалистов и экспертов. Изучение этого явления тесно связано с историей возникновения и развития публичной сферы, публичности, публики и общественного мнения. В предлагаемой статье рассматриваются исторический контекст становления публичной сферы в России во второй половине XVIII - первой половине XIX в., концептуальные положения модели публичности Ю. Хабермаса и теории «селебрити» А. Лилти, являющихся основными методологическими ориентирами при изучении конструкции «знаменитости» в пространстве публичности, мнения современных исследователей по заявленной теме. В тексте уделяется внимание темпоральным особенностям генезиса публичной сферы в условиях существования жесткого самодержавного режима в России. Представлена версия о многофакторной и разновременной истории российской европеизации в XVIII столетии, позволяющая интегрировать Россию в контекст европейских модерновых процессов в краткосрочной перспективе. В соответствии с ней общество пережило сначала «петровскую» - сугубо внешнеполитическую - волну европеизации, благодаря которой появилось имперское государство с правом его участия в европейских международных делах. Естественным следствием предшествующего периода стала «екатерининская» - внутриполитическая - волна европеизации, импортировавшая в страну западную аксиологию, нормы и практики европейского управления, перемены в повседневной жизни дворянства и т.д. В статье содержится анализ конкретно-исторической ситуации в России в первой половине XIX в., детерминировавшей временной маршрут движения к утверждению полноценного публичного пространства в социуме. В заключение определены базовые факторы, способствовавшие утверждению феномена «селебрити» в отечественной публичной сфере.
"селебрити", публичная сфера, публика, репутация, слава, европеизация, история России xix в
Короткий адрес: https://sciup.org/147245292
IDR: 147245292 | УДК: 930: | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-4-5-12
Текст научной статьи Феномен "знаменитости" в российском публичном пространстве первой половины XIX века: теоретические основания
«Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание» [Т. Н. Грановский…, 1897, с. 453], – восторженно писал в своем письме о Петре I известный историк, мыслитель и «западник» Т. Н. Грановский в середине XIX столетия. Прижизненная и посмертная слава Петра Великого, «Отца Отечества» и одновременно Антихриста, лжецаря формирует амбивалентные образы отечественной традиции эпохи раннего модерна. В век европейского Просвещения Россия пережила как минимум две «волны европеизации».
Первая – «петровская» – превратила Московию в имперское государство, став безальтернативным ответом на цивилизационный вызов конца XVII в. Она являлась сугубо внешнеполи-
тическим феноменом, позволившим интегрировать Россию в систему международных отношений Европы. Вместе с тем эта волна определила исторический вектор развития российского общества и обрекла его на следующий этап модернизации – «внутреннюю европеизацию» – в эпоху Екатерины Великой. «Просвещенное самодержавие», верховенство закона, «истинная монархия», десакрализация и самоограничение власти инструментализировали трансфер европейских ценностей в Россию. Этот курс превратился в государственный стандарт внутренней политики всех последующих императоров (за исключением Павла I), исчерпав свои креативные возможности на пике Великих реформ 1860–1870-х гг. Благодаря политике «просвещенного самодержавия» в России появилась модель эволюционной трансформации общества «сверху» с краткосрочной перспективой конституционных преобразований.
Начало «внутренней европеизации» во второй половине XVIII в. инициировало многие политические и социокультурные изменения в российском социуме, происходившие в режиме «контролируемой темпоральности». В частности, рецепция просвещенческой аксиологии постепенно формировала очень узкий круг интеллектуально продвинутых критиков местных порядков и адептов западнической исторической альтернативы. В отличие от Западной Европы, в екатерининской России не было условий для появления зачатков публичности и публичной сферы как таковой. Политика «просвещенного самодержавия» императрицы опиралась на идею безусловного сохранения неограниченной верховной власти монарха, жестко пресекающего любые проявления вольнодумства и независимости.
И вместе с тем можно говорить об образовании весьма специфического пространства, «карликового» по размерам, аристократического по статусу и придворного по положению, которое стало насыщаться новыми идеями, пришедшими с Запада. Это были микросообщества избранных императрицей дискутаторов, способных вольнодумствовать в обозначенных границах. Политизация общественных отношений в Европе, вызванная Французской революцией, напугала просвещенную, но все же самодержавную российскую власть. Очевидно, что в короткое время в конце царствования Екатерины II весьма скромные практики интеллектуальных дискуссий были уничтожены, а некоторые участники даже сурово наказаны.
В целом социальная история России второй половины XVIII столетия характеризуется знаковыми структурными трансформациями. Политика «просвещенного самодержавия» как базовое содержательное наполнение «внутренней европеизации» страны завершила процесс формирования сословий, среди которых только дворянство могло претендовать на относительно автономный статус. Важно отметить, что государство добровольно, по собственной инициативе законодательно обеспечило дворянские свободы, осуществив тем самым курс на самоограничение своих властных полномочий по отношению к этой привилегированной группе. Верховная власть санкционировала и сопровождала генезис частноправовой организации дворянского сословия, что предполагало в перспективе репрезентацию его публичности.
Императрица Екатерина II декларировала и практически осуществляла просвещенческий принцип верховенства закона в условиях политического доминирования самодержавного режима. Любой проект мог превратиться в законодательную норму исключительно по воле монарха, однако после одобрения высшей инстанцией закон приобретал статус безусловного авторитета в обществе. Нарушения или попытки его пересмотра могли иметь очень серьезные негативные последствия лично для самодержца, что особенно ярко продемонстрировала история Павла I в начале XIX столетия. Скорее всего, именно с внутренних реформ Екатерины Великой можно начинать отсчет политической практики разграничения государственного и общественного пространства в России. Этот процесс во второй половине XVIII в. был слабо различимым следствием преобразовательных усилий императрицы, особенно в конце ее царствования, однако богатая на события история российского дворянства первой четверти следующего века все же позволяет делать подобное предположение.
Совсем не случайно, например, генезис российской либеральной традиции принято связывать с екатерининской эпохой как с временем модных увлечений вольнодумством и европейскими идеями в среде просвещенного дворянства. Несмотря на отсутствие каких-либо явных социально-экономических или политических индикаторов модерного транзита России в данный период, привилегированный статус первого сословия создавал правовые и социокультурные условия для обустройства частной сферы. Очевидной особенностью описываемого процес- са можно считать инициативную роль государства, выступавшего в роли триггера приживления на отечественной почве престижных для просвещенной власти европейских новаций. Добровольная десакрализация монаршего института неизбежно модернизировала характер социально-политической коммуникации в высших эшелонах. В постепенно обновляющейся переходной реальности самодержавие нуждалось в формировании и воспитании своего самого близкого союзника в лице дворянства как единственной потенциально лояльной к режиму силы.
Приватная автономия российского просвещенного дворянства в конце XVIII столетия опиралась на безусловное владение частной собственностью, правовой сословный статус, образовательный ценз с обязательной модой на чтение современной иностранной литературы и т.д. Дарованные «сверху» привилегии не разрывали, но увеличивали дистанцию между властью и дворянской элитой, запуская в действие механизм ее самоидентификации, с трудом преодолевавшую господствовавшую традицию политического патернализма. Главным в повестке дня первого российского сословия становилось удержание приобретенного положения, прежде всего от весьма изменчивых интенций императорского двора. Для этого использовались разнообразные методы – от заговора и цареубийства до содержательных просветительских усилий близкого монаршего окружения.
В любом случае политическое и социокультурное движение российского общества во второй половине XVIII столетия резко увеличивало шансы на появление незаадминистриро-ванного пространства «дворянской публичности», которое бы идейно насыщалось европейской просветительской аксиологией и создавало условия для будущей интеллектуальной рецепции принципов либерального правового государства уже в следующем веке. Обособление дворянства, ставшее результатом правовых гарантий государства, имущественная независимость и образовательный ценз в совокупности с внешнеполитическими событиями первых двух десятилетий XIX в. вывели часть представителей сословной элиты в публичную сферу. В этот период дворяне вышли из интимного семейного и частного корпоративного круга и предъявили свои мировоззренческие принципы российскому социуму.
В первой четверти XIX столетия, в эпоху правления императора Александра I, дворянская публичная сфера формировалась параллельно по двум направлениям. Во-первых, это появление авторитетного публичного мнения (public opinion) при дворе в окружении монарха. Деятельность Негласного комитета и особенно М. М. Сперанского (несмотря на происхождение из духовного сословия) делало возможным не только практику воздействия на самодержца посредством убеждения, но и подготовку, обсуждение и реализацию некоторых важных реформаторских проектов. Более того, в этом пространстве активно развивалась конкуренция, продиктованная как традиционной борьбой за влияние, так и не в меньшей степени содержанием представляемых суждений. В роли эрзац-публики выступали придворные сановники и высокие чины, вынужденные в разной степени участвовать в полемических спорах о насущных проблемах преобразований в России.
Во-вторых, история тайных организаций декабристов и открытые выступления в публичном пространстве манифестировали наличие статусно-правовой и интеллектуальной дворянской автономии от верховной самодержавной власти. Известные декабристские программы свидетельствовали об активной рецепции европейских либеральных ценностей, пока еще в значительной степени механической без «приживления» их на российской почве. В целом, феномен декабризма развивал и подтверждал идущий в России процесс разграничения государственной и общественной сферы, в которой представители первого сословия заняли доминирующие позиции. Все эти события не выходили за рамки традиционной формы публичности с исключением низших слоев населения, где «народ образует кулисы, перед которыми господствующие сословия – дворяне, церковные иерархи, короли и т.д. – представляют самих себя и собственный статус» [ Хабермас , 2016, с. 14]. Можно ли говорить о том, что в России в первой четверти XIX столетия в пространстве еще только формируемой публичной сферы появляется феномен «селебрити»? Безусловно, нет.
Концептуальная дискуссия о знаменитости может вестись в рамках известной теории современного французского специалиста А. Лилти, который выделяет три «формы признания» в обществе: «репутация», «знаменитость» и «слава» [Лилти, 2018]. В этой иерархичной конструкции нижнюю ступень занимает «репутация», складывающаяся посредством «социализа- ции мнений» ближнего к человеку круга общения: личного, профессионального, общественного, случайного и т.д. Иными словами, репутация возникает из персональной формальной и неформальной коммуникации и является обязательным атрибутом личностной характеристики любого индивида, своеобразной коллективной оценкой его теми, кто знаком или пересекался с ним лицом к лицу (face to face). Таким образом, речь идет, с одной стороны, о прижизненном темпоральном, а, с другой, ограниченном пространственном измерении. Репутация, как правило, не «передается по наследству» и не распространяется за границы достаточно узкого коммуникационного поля.
Понятие «слава», занимающее верхнюю строчку на иерархическом пьедестале, напротив, имеет принципиально иные коннотации. Оно относится к «героям, святым, выдающимся личностям, ко всем тем фигурам, чье прославление всегда играло существенную роль в западной культуре, а в Новое время вылилось в появление образа “великого человека”, столь милого сердцу философов-просветителей…» [Там же, с. 11]. Достижение славы почти всегда сопряжено с незаурядными действиями, поступками, творениями, позволяющими создать соответствующий ореол конкретной личности. Традиционно подобный статус приобретается посмертно при единодушном (или подавляющем) одобрении в коллективном сознании потомков и является эксклюзивным. Список людей, удостоенных славы, по определению не может быть длинным. Ее коммеморативность детерминирует длительный процесс укоренения той или иной фигуры в героическом каноне великих исторических персонажей. Вместе с тем совершенно не исключено, что со временем в него будут внесены самые неожиданные коррективы.
Между «репутацией» (reputation) и «славой» (glory), по мнению Лилти, следует разместить категорию «знаменитость» (celebrity). Генезис феномена «селебрити» автор относит к XVIII столетию и считает это результатом трансформации публичного пространства и первоначальных попыток коммерциализации развлечений. Отграничивая знаменитость от смежных понятий, Лилти утверждает, что знаменитая личность «знакома тем, у кого нет ни малейших причин иметь о ней какое-либо мнение, кто прямо никак не заинтересован в вынесении собственных суждений о ее личных качествах и профессиональных навыках» [Там же, с. 12].
С одной стороны, «селебрити» имеет дело не с узким кругом людей, а с публикой, не коммуницирующей непосредственно со знаменитостью. Быть известным и знаменитым в публичном пространстве значит обязательно вызывать общественное любопытство, эмоционально окрашенное в разные тона – от восхищения до полного неприятия. С другой стороны, непременным условием является поддержание интереса к себе, так как речь в данном случае идет о публичном персонаже. Это объясняется темпоральной природой знаменитости, которая существует «здесь и сейчас», чужда всякой коммеморативности и слабо связана с какой-либо профессиональной деятельностью. Не столь важно, чем занимается тот ли иной знаменитый человек, важно, насколько он способен будоражить общественное мнение. «Селебрити» целиком становится объектом публичного внимания с очевидным акцентом на частную невидимую жизнь новоявленного кумира. Возникает сильная эмоциональная привязанность к знаменитости, воплощающаяся в фигуре фаната.
Лилти критически относится к классическим рассуждениям немецкого социолога и философа Ю. Хабермаса о буржуазном, просвещенном и либеральном типе публичного пространства XVIII столетия, которое пережило радикальную структурную трансформацию в последующие два века под воздействием массмедиа и процесса коммерциализации социальных связей. По версии французского специалиста, это редуцирует и идеализирует общество эпохи Просвещения и препятствует многофакторному анализу публики того времени. Публику формирует «не обмен рациональными аргументами, а общее любопытство к чему-то и общая вера во что-то, интерес к одним и тем же вещям в один и тот же момент и осознание синхронности проявления этого интереса» [Там же, с. 17].
Здесь важное место занимало общественное мнение с пристальным вниманием к частной жизни известных персонажей, а не только практический интерес к значимой социальнополитической повестке. Иначе говоря, Лилти предлагает насыщать дискурс публичности разнообразными, в первую очередь эмоциональными коннотациями, одновременно влияющими и формируемыми структурами рынка и массовой культурой. В данном случае эмпатические переживания людей во многом связаны с эгалитарным восприятием знаменитости, которую род- нит с публикой как ощущение принадлежности к элите, с одной стороны, так и (даже в большей степени) самоидентификация простых смертных с галереей «селебрити», с другой. Теоретическая конструкция Лилти претендует на универсальный статус концептуальной модели изучения феномена «знаменитости» вне зависимости от территориальной принадлежности, что позволяет использовать ее применительно к историческим реалиям России XIX столетия.
После декабристов в течение следующей четверти века в российской образованной части общества происходили разнонаправленные процессы саморефлексии и поиска новой версии национального обновления. Политическая элита продолжала успешно эксплуатировать екатерининский курс «просвещенного самодержавия» посредством реформаторских усилий, законотворческой деятельности и активных идеологических посылов, направленных на удержание за собой ведущих позиций в модернизационном движении. Даже после европейских и польских событий начала 1830-х гг. режим императора Николая I не полностью отказался от преобразовательной политики, сосредоточившись в основном на подготовке будущих изменений. Вместе с тем следует учитывать появление в это время нового законодательства и меры, предпринятые в решении крестьянской проблемы на рубеже 1830–1840-х гг., которые будут востребованы в период проведения Великих реформ.
Одновременно Николаевское тридцатилетие стало временем идеологического обновления образа российского самодержавия. Появление знаменитой триады С. С. Уварова «православие – самодержавие – народность», метко названной А. Н. Пыпиным «теорией официальной народности», подтверждает стремление власти контролировать начавшиеся процессы национального строительства. При этом императорская власть в данной концепции легитимирована «не божественной санкцией, но “положением”, “нуждами” и “желаниями” страны, то есть представляет собой по преимуществу “русскую власть”, так же, как и православие интерпретируется, прежде всего, как русская вера. Тем самым два первых члена триады выступают в качестве своего рода атрибутов национального бытия и национальной истории и оказываются укоренены в третьем – пресловутой народности» [ Зорин , 2004, с. 362].
Кроме того, начавшиеся еще в эпоху Екатерины Великой процессы секуляризации образа монарха, десакрализации (самоограничения) верховной власти, персонифицированные попытки фрондирования по отношению к престолу формировали содержательную повестку внутренней европеизации России. Например, в общественном сознании второй половины XVIII столетия «постепенно складывалась иная, альтернативная официальной трактовка слова гражданин , в котором высшая политическая элита дворянства начинала видеть человека, защищенного законом от своеволия самодержца и его личных высочайших пристрастий» [ Марасинова , 2017, с. 408]. Эта слабая тенденция была существенно усилена декабристами и стала важным объектом рефлексии в образованной части российского общества в Николаевскую эпоху.
«Декабристская история» явилась очевидным триггером долгосрочного процесса формирования официальной публичной сферы в российском интеллектуальном и политическом пространстве. Хабермас настаивал, что политическая публичность вырастает из «литературной публичной сферы», в которой генезис общественного мнения детерминирован актуальными дискуссиями в печатных изданиях. В данном случае важным «критерием публики и публичного является уход от опеки государства и церкви: механизмы публичной сферы предполагают наличие открытой дискуссии (дебата), критики государственно-властной линии, а также источника общественного мнения» [Несовершенная публичная сфера, 2021, с. 228]. В результате в краткой временной перспективе появляются публичные интеллектуалы, способные в силу своего образовательного уровня профессионально пользоваться печатным словом и не только влиять, но и создавать аттрактивное публичное пространство в обществе.
Существующие в историографии концептуальные размышления о разных режимах публичности включают в себя идею о «сильной» и «слабой» публике, которая артикулирует спо-собность/неспособность влиять на принимаемые властью решения. Эта теоретическая конструкция имеет значительный функциональный потенциал при описании российских реалий XIX столетия. Методологически важно то, «что слабая публика, когда она возникает, уже создает определенную коммуникативную власть, пусть и слабую. Мы здесь видим скорее историческую эволюцию форм от слабых публик к сильным, в которой российский контекст лучше описывают именно возникающие слабые публики» [Там же, с. 74].
В весьма своеобразной, еще только возникавшей публичной сфере рождались яркие личности, имевшие прочную и достойную репутацию, готовые предлагать к обсуждению актуальную общественно-политическую повестку. Среди них невозможно пройти мимо П. Я. Чаадаева, видных представителей русского западничества и славянофильства, сторонников теории «официальной народности», известных литераторов и публицистов, печатавшихся на страницах периодики во второй четверти XIX в. Кружки, салоны, литературные общества, журналы стали площадками для квазипубличных дискуссий, в которых формировался отечественный феномен «селебрити».
В современной литературе предлагается интересная типологизация режимов публичности в России. В соответствии с ней период 1830–1850-х гг. попадает в границы режима «Пропаганды и ограничения», где присутствуют фазы ограничения публичных дебатов, активизация централизованной пропаганды, введение элементов цензуры и репрессий против критиков существующих институтов [Там же, с. 69]. Вместе с тем, несмотря на очевидные сложности властного политического реагирования, в 50–60-е гг. XIX столетия в отечественной общественной мысли завершается процесс формирования основных течений (радикализм, либерализм, консерватизм), перманентными практиками становятся публичные выступления (академические лекции и дискуссии, значимые дебаты по острой социальной тематике, рефлексия по поводу национального прошлого и настоящего, литературные и художественные споры и т.д.), существенно расширяется пространство интеллектуальной и развлекательной печатной продукции.
Развитие «печатного капитализма» [ Anderson , 1983] в России, безусловно, оживило издательскую деятельность и способствовало увеличению количества газет и журналов с соответствующим ростом их тиражной популярности. В 1860 г. объем выпуска «толстых» журналов достиг цифры 30 тысяч экземпляров и до конца века возрос втрое [ Рейтблат , 2009, с. 33]. В столицах (Санкт-Петербург и Москва) существовали несколько ежедневных и более трех десятков, публиковавшихся не столь регулярно газет [ McReynolds , 1991, Table 1], а тиражи ведущих изданий могли достигать 5–7 тысяч.
Менялся не только языковой, но и исторический контекст публичного высказывания. Накануне и во время Великих реформ давление центральной власти ослабевает и, по мнению некоторых экспертов, в России формируется новый «режим публичности» – «режим закипания» (1860–1881), который характеризуется сочетанием вынужденной либерализацией «сверху», активными публичными дискуссиями и массовым недовольством или даже террором «снизу» [Несовершенная публичная сфера, 2021, с. 69]. К этому следует добавить очевидный факт поляризации в пространстве журнальной периодики, сопровождавшийся порой радикальной сменой политической ориентации ряда популярных изданий.
В конечном счете самые разнообразные процессы первой половины XIX столетия – от распространения романтизма в России и внешнеполитических событий отечественной военной истории (формировавших образ(ы) «героя(ев)», сильную и привлекательную личность), развития «печатного капитализма» (генерировавшего газетную и журнальную «революцию», появление публичных интеллектуалов и соответствующей среды их обитания), начала нациестрои-тельства (актуализировавшего тематику «нации», «народности» и национализма) [ Миллер , 2010] до возникновения новых литературных жанров (фельетон), специализированной журнальной продукции (театральной, художественной, развлекательной) и публичного интереса к сфере искусства (оперные примы, знаменитые актеры, гастрольная деятельность) – детерминировали генезис феномена «селебрити» в российском обществе.
Список литературы Феномен "знаменитости" в российском публичном пространстве первой половины XIX века: теоретические основания
- Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII - первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 416 с.
- Лилти А. Публичные фигуры: изобретение знаменитости (1750-1850). СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018. 496 с.
- Марасинова Е.Н. "Закон" и "гражданин" в России второй половины XVIII века: очерки истории общественного сознания. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 512 с. EDN: YPYLGX
- Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 320 с. EDN: QPOGPD
- Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России: сб. стат. / сост. Т. Атнашев, Т. Вайзер, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 744 с.
- Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 448 с. EDN: QUGPIJ
- Т.Н. Грановский и его переписка. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1897. Т. II. 498 с.
- Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследования относительно категории буржуазного общества. М.: Весь мир, 2016. 344 с.
- Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983. 160 р.
- McReynolds L. The News Under Russia's Old Regime: The Development of a Mass-Circulation Press. Princeton: Princeton University Press, 1991. 328 р.