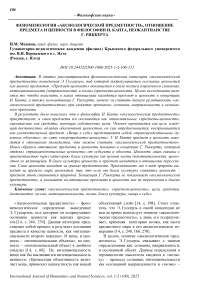Феноменология «аксиологической предметности», отношение предмета и ценности в философии И. Канта, неокантианстве Г. Риккерта
Автор: Мешков И.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1-2 (100), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феноменологическая категория «аксиологической предметности» выведенная Э. Гуссерлем, под которой подразумевается осознание ценностей как ценных предметов. «Предмет-ценность» понимается в связи ноэзиса (оценочного сознания), интенциональности (направленности) и ноэмы (предмета-ценности). Целью исследования является то, чтобы выяснить, в каких отношениях находятся предмет и ценность в концепциях И. Канта, а также неокантианца Г. Риккерта, можно ли считать данную релятивность «аксиологической предметностью» при сходстве признаков: сознания, направленности и осознанного предмета. В результате было выяснено, что в философии И. Канта «аксиологическая предметность» присутствует, а сами предметы им осознаются как относительные «предметы-ценности», оцениваемые как средства, имеющие собственные цены. Человек оценивается как цель, имеющий достоинство, обладая абсолютной ценностью, он сам опредмечивается, воспринимается как умопостигаемый предмет. «Вещи в себе» представляют собой «трансцендентальные духовные объекты», по сути «сверхпредметы-ценности». У И. Канта предмет и ценность находятся в отношении тождества, что можно считать «аксиологической предметностью». Иным образом отношение предмета и ценности показано в концепции Г. Риккерта, который отделял «трансцендентальные ценности» от субъекта и объекта. Ценность лишь связана с предметностью через категорию блага культуры как ценной части действительности, ценностью не являющейся. В благе культуры ценность и предмет находятся в отношении пересечения. Сами ценности выходят за гранью предметности. Предметность же в виде природы выходит за пределы мира ценностей, так что если от блага культуры «отнять» ценность - предмет этот становится природой. Концепция Г. Риккерта не показывает «аксиологической предметности», а указывает на отношение предмета и ценности как их пересечения в благах культуры.
«аксиологическая предметность», «предмет-ценность», цели, средства, достоинство, ноэзис, интенциональность, ноэма, блага культуры, «вещь в себе»
Короткий адрес: https://sciup.org/170208942
IDR: 170208942 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-1-2-106-111
Текст научной статьи Феноменология «аксиологической предметности», отношение предмета и ценности в философии И. Канта, неокантианстве Г. Риккерта
«Аксиологическая предметность» – феноменологическое определение, выведенное Э. Гуссерлем, под которым он подразумевает осознание ценности как ценных предметов [14, с. 240, 270]. Данная категория представляет собой процесс и результат осознания предмета в качестве ценности, как «интенциональности второго порядка». И вещь, и ценность – «интенциональные объекты», но ценность – «интенциональный объект в двойном смысле» [14, с. 66]. На интенциональность вещи как бы наслаивается интенциональность ценности. «Ценностная объективность включает вещь, привносит ценностность как новый объективный слой» [14, с. 198]. Стоит отметить, что Э. Гуссерль в своей концепции не всегда прямо использует понятие «аксиологическая предметность», а лишь его подразумевает, применяя категорию ноэмы, как части предметного мира в его аксиологическом измерении [14, с. 240, 168, 270].
В целом, понятие «аксиологичнская предметность» Э. Гуссерль связывает с такими определениями как: сознание, направленность и осознанный объект. Данные определения в терминологии мыслителя сводятся к «ноэзи-су» – процессу сознания, интенциональности как осознанной направленности и «ноэме» – предмету, феномену со смысловым содержанием [14, с. 270].
«Ноэзис» – конституирует предметы через интенциональность [14, с. 270]. Стоит обратить внимание, что «ноэзис» как процесс сознания является «оценивающим сознанием», который формирует наряду с оголённым вещным миром новую «аксиологическую предметность», «сущее» новой сферы [14, с. 244].
Проекцией сознания является его направленность, интенциональность, совокупность оценочных актов, суждений ориентированных на ценности [14, с. 168], способность порождать предметный мир в его ценностном значении [14, с. 270]. Интенциональность – единство переживаний «быть сознанием о чём-то» [14, с. 168].
Цель направленности интенциональности, по Э. Гуссерлю именуется «ноэмой» – предметом как феноменом, обладающим смысловой значимостью [14, с. 270]. «Ценная вещь или ценность» представляет собой «полный интенциональный коррелят оценивающего акта» [14, с. 66].
«Аксиологическая предметность» Э. Гуссерля в одном значении понимается как сам «процесс» сознательного перехода от ноэ-зиса через интенциональность – к ноэме. Именно интенциональность делает реальную вещь – ценностной ноэмой.
Таким образом, «аксиологическая предметность» является связью трёх компонентов: сознания (ноэзиса), направленности (интенциональности) и осознанного предмета (ноэ-ма). «Аксиологическую предметность» Э. Гуссерль именует также и ноэмой в ценностном смысле.
Исходя из выше представленного тезиса, возникает вопрос – можно ли считать, что в концепциях И. Канта и неокантианстве речь идёт в контексте об «аксиологической предметности» при совпадении признаков: сознания, направленности и осознанного предмета? Вместе с тем, анализ неокантианства позволит выяснить, на сколько, предмет и ценность соотносимы, находясь в противоположности, пересечении, тождественности.
« Аксиологическая предметность » в философии И. Канта
И. Кант в своей концепции в достаточной степени говорит о предметах в контексте их связи с ценностями. Также мыслитель анало- гично Э. Гуссерлю связывал «предметы-ценности» с сознанием, «оценивающим сознанием». По И. Канту, «предметы, существование которых хотя и зависит не от нашей воли, а от природы, имеют, тем не менее, если они не наделены разумом, только относительную ценность как средства и называются поэтому вещами…» [5, с. 269]. То есть, вещи, не наделённые разумом, имеют относительную ценность, постигая их, они для человека являются средствами. Разум, подобно ноэзису, творит мир в его ценностном измерении, и об этом И. Кант также высказывается: «...если бы мир состоял из одних только безжизненных или отчасти из живых, но лишенных разума существ, то существование такого мира не имело бы никакой ценности, так как в нем не было бы существа, которое имело бы хотя бы малейшее понятие об этой ценности» [6, с. 485].
Центральным тезисом И. Канта является утверждение – «царство целей» и есть обитель ценностей: «в царстве целей все имеет или цену, или достоинство» [5, с. 276].
Исходя из представленного тезиса И. Канта, в его аксиологической концепции существует чередование целей, средств, достоинств. Вещи, имея относительную ценность как средства, оборачиваемы, где, как замечает А. Введенский, существуют «относительно ценные цели», они – лишь средство для реализации «абсолютно ценной цели» [1, с. 125].
Что касается средств, или относительных ценностей, вещей, то И. Кант выделяет их классификацию, называя их «ценами». «В царстве целей» существуют следующие «цены»: «рыночная цена» – «то, что имеет отношение к общим человеческим склонностям и потребностям», и «определяемая аффектом цена» – «то, что и без наличия потребности соответствует определенному вкусу, то есть удовольствию от одной лишь бесцельной игры наших душевных сил». «Рыночная цена» , по современной терминологии, относится к материально-практической ценности. «Определяемой аффектом ценой» Кант называет то, что именуется эстетической ценностью [7, с. 387].
Относительно вышесказанного следует, что цели, средства и достоинство имеют свои «цены», где достоинство бесценно, так как относится к человеку. «Достоинство» – нравственно-моральная ценность, являющаяся «законодательствующим членом в царстве целей», так как «только нравственность и человечество, поскольку оно к ней способно, обладают достоинством» [5, с. 277]. И. Кант подчёркивает значимость цены человека, где «во всем сотворенном, – все что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего лишь как средство; только человек, а с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе. Именно он субъект морального закона, который свят в силу автономии своей свободы» [5, с. 414]. По словам мыслителя, достоинство бесконечно выше всякой цены, которую совершенно нельзя сравнивать с ней, не посягая как бы на его святость» [5, с. 277— 278].
Таким образом, относительные цели, средства имеют отношение к вещам, предметам, а абсолютные цели, в числе которых человек, имеют достоинство, которое «бесконечно выше всякой цены». Достоинство, «вочелове-чевает» человека, ведь обладая «достоинством», человек – личность не только «заставляет все другие разумные существа на свете уважать его», но и сам «может сравнивать себя с каждым другим представителем этого рода и давать оценку на основе равенства» [5, с. 373].
Для И. Канта проблематика сферы идеального, «трансцендентального», является основополагающей, затрагивающей понятия «ве- щей в себе». И.С. Нарский полагает, что в философии И. Канта «вещь в себе» одним из своих значений, помимо указателя на внешнего непознаваемого возбудителя наших ощущений и представлений, имеет значение указателя «на трансцендентные духовные объекты», в том числе «она выступает в роли наименования для сферы идеалов, то есть совокупности недостижимых во всей полноте целей ценностных стремлений» [9, с. 16]. По словам И. Канта, «то, что необходимо побуждает нас выходить за пределы опыта и всех явлений, есть безусловное, которое разум необходимо... ищет в «вещах в себе» в дополнение ко всему обусловленному ... не представления о вещах, как они нам даны, сообразуются с этими вещами как «вещами в себе», а ... эти предметы как явления, сообразуются с тем, как мы их себе представляем» [4, с. 8990].
Исходя из вышесказанного, следует, что сфера идей у И. Канта предполагает цель, так как они «недостижимы по своей полноте цели ценностных стремлений». По утверждению П. Наторпа «идеи – точки в бесконечности, куда направлены пути опыта» [16, с. 473]. Идеи как непостижимые цели соответствуют тезису о «царстве целей как обители ценностей», где сфера идеалов представлена «вещами в себе», «трансцендентальными духовными объектами». «Предметы как явления, сообразуются с тем, как мы их себе представляем», то есть реальные предметы соотносимы с идеальными «сверхпредметами». В данном контексте, «трансцендентальный мир» представлен у И. Канта в качестве идеальной «аксиологической предметности».
Идеальная «аксиологическая предметность», «вещи в себе», согласно воззрениям И. Канта, соотносятся с разумом, «оценочным сознанием». Оценка является тем, что связывает действительные предметы и «сверхпредметы». Человек оценивает предметы согласно идеям [3, с. 443]. В данном плане, И. Кант утверждает, что «возведение ценности из относительной в абсолютную, значит оценивать чрезмерно» [4, с. 169]. То есть, «аксиологическая предметность» абсолютная и относительная различна в оценке, где идеальная ценность по цене выше утилитарной.
Таким образом, представление об отношении предмета и ценности по И. Канту можно назвать «аксиологической предметностью» в плане их соотнесения к «оценивающему сознанию», разуму. Разум, через оценку «наделяет» «аксиологическую предметность» различными ценами, где относительные предметы-ценности имеют рыночную и аффективную цены. Человек, «оборачивается» в умопостигаемый предмет, как «вещь в себе». Сама личность, обладая разумом, представляет собой внутреннюю абсолютную ценность, которая превыше всякой цены, чем является достоинство. «Вещи в себе», «трансцендентальные духовные объекты», «сверхпредметы» являясь «точками в бесконечности», являются целями ценностных стремлений.
Философия И. Канта показывала отождествление предмета и ценности на уровне относительных ценностей «вещей для нас», материально-практических и эстетических. Человек усматривался также как умопостигаемый предмет, а «вещи в себе» рассматривались как «трансцендентальные духовные объекты». На представленных основаниях, воззрения И. Канта о «предметах-ценностях» можно считать «аксиологической предметностью».
Блага культуры как отношение предметности и ценности в неокантианстве Г. Риккерта
Относительно классического неокантианства, прослеживается определённый «отход» от «отождествления» предмета и ценности. Предмет и ценность в неокантианстве находятся друг к другу в отношении, которым является «пересечение». Внимание к отношению предметов как ценностям в данном философском направлении выражено «опосредовано», в отличие от концепции И. Канта.
Предмет, не являясь ценностью, имеет к ней отношение, которое представлено в форме аксиологических категорий, олицетворяющих данную связь. В качестве примера можно представить концепцию Г. Риккерта, который не считал предметы ценностями. Ценность связана с действительностью через благо и оценку [11, с. 66]. Благо – ценная часть действительности, не являющаяся ценностью, но с нею соотносящаяся. Блага – предметы культуры. Если от блага культуры отнять ценность, то предмет этот становится природой [11, с. 66].
Аксиологические представления Г. Риккер-та достаточно специфичны, по его мнению ценности – трансцендентальный смысл, лежащий «над» и «до» всякого бытия [10, с. 4546]. «Трансцендентальное» является смыслом, сознанием вообще, отделённым от объективности, так как сущность ценности – значимость, а не фактичность [11, с. 55]. Ценности по Г. Риккерту в определённой степени противостоят бытию, они не обладают фактичностью, и не объективны, а только значимы. Блага – объективны, предметы культуры, ценные части действительности, олицетворяющие связь предметности и трансцендентальной ценности. Благо культуры тем самым – аксиологическая категория, выражающая отношение «пересечения» предмета и ценности.
В данной связи, как отмечает С.В. Силенко, неокантианец Г. Риккерт «отделяет ценность с одной стороны от оценки, а с другой, от блага, тем самым отказывается как от чисто субъективного, так и объективного понимания природы ценности, существовавшего среди его предшественников» [12, с. 15].
Отношение Г. Риккерта в его концепции к связи предмета и трансцендентальных ценностей, рассуждал другой видный русский мыслитель Л. Столович, где выделял:
-
- трансцендентальные ценности;
-
- ценный предмет или благо культуры;
-
- предмет чуждый ценности, то есть составляющий природу.
Исходя из отношений ценности и предмета, философ определяет «три мира»:
-
- «мир ценностей» – идеального, или значений, не являющийся «предметностью»;
-
- «мир культуры», включающий в себя предметы-блага, имеющие отношения к ценности;
-
- «мир природы», состоящий из предметов чуждых ценности [13, с. 415].
Таким образом, по Г. Риккерту «мир ценностей» противоречит предметности как «значимость» – фактичности [11, с. 55]. Не включает в себя предметности. «Мир культуры» состоит из предметов, имеющих отношение к ценностям, но сами они ценностями не являются, они «ценные части действительности». «Мир природы» состоит из предметов, отделённых от ценностей.
Другие представители классического неокантианства касались проблематики отношения предмета и ценности весьма опосре- дованно, в основном как реакцию на предметность. По Г. Лотце, чувством удовольствия «схватываются ценности» [8, с. 281]. Представитель марбургской школы Г. Мюнстерберг аналогично Г. Лотце считал, что «чувство удовольствия» – сущность относительных ценностей [15, с. 59]. Относительные ценности как средства имеют отношение к предметности.
С точки зрения В. Виндельбанда, «высшие ценности эмпирической жизни – знание, нравственность и искусство, становятся живыми деяниями Божества в человеке и приобретают в трансцендентальном сознании более высокое глубокое значение» [2, с. 298]. Искусство можно в некоторой степени связать с отношением предмета и ценности.
Заключение
Таким образом, феноменологическое определение Э. Гуссерля «аксиологическая предметность» как соотношение ноэзиса (сознания), интенциональности (направленности) и ноэмы (осознание предмета-ценности) может быть экстраполировано на философию И. Канта. По его мнению, предметы, осознаваемые как относительные ценности, являются средствами, обладающими различными ценами, служащими человеку. Сам человек, являясь абсолютной ценностью, есть цель, которая превыше всякой цены – это его достоинство. Идеальный образ человека, соблюдающего моральный закон, представлен как «умопостигаемый предмет». В данном смысле человек – опредмечивается. Вместе с тем,
«вещи в себе» также являются «трансцендентальными духовными объектами» целей ценностных стремлений. Концепция И. Канта олицетворяет тождество предмета и ценности «аксиологической предметности» в разрезе: «предмет-ценность» средство, «человек-цель как умопостигаемый предмет» обладающий абсолютной ценностью, «вещи в себе» как трансцендентальные духовные объекты, идеальные ценности. Данная структура у И. Канта относится к оценивающему сознанию предметности в качестве средств, целей, цен и достоинств. Имеет место направленность сознания, ведь «царство целей» и есть обитель ценностей: «в царстве целей все имеет или цену, или достоинство» [5, с. 276].
Концепция Г. Риккерта в отличие от И. Канта не содержит «аксиологической предметности», но показывает определённым образом отношение предметности и ценности логическим образом. В данном контексте, ценность выходит за рамки предметности, также как и предметность по отношению к ценности. Точка «пересечения» трансцендентальной ценности и предметности – ценные части действительности, ценностями не являющиеся, они есть блага культуры. Блага культуры лишь соотносятся с трансцендентальными ценностями. Само «царство ценностей» отделено как от субъекта, так и от объекта, оно за пределами предметности. В свою очередь и предметность может не соотноситься с ценностями, и такая предметность – природа. По Г. Риккерту, «если от блага культуры» отнять ценность, то предмет этот становится природой» [11, с. 66].
Список литературы Феноменология «аксиологической предметности», отношение предмета и ценности в философии И. Канта, неокантианстве Г. Риккерта
- Введенский А.И. Философские очерки. - Прага, 1924. - 213 c.
- Виндельбанд В. Прелюдии: философские статьи и речи. - СПб.: Изд-во Жуковского, 1904. - 374 с.
- Кант И. Критика чистого разума. М.: Наука, 1998. - 655 c.
- Кант И. Сочинение. В 6 т. Т. 3. - М.: Мысль, 1965. - 441 с.
- Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 4, ч. 1. - М. : Мысль, 1965. - 478 с.