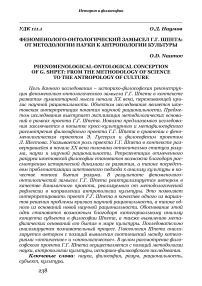Феноменолого-онтологический замысел Г. Г. Шпета: от методологии науки к антропологии культуры
Автор: Наумов О.Д.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История и философия
Статья в выпуске: 1 (5), 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель данного исследования - историко-философская реконструк-ция феноменолого-онтологического замысла Г.Г. Шпета в контексте развития гуманитарной мысли начала XX века, переживающей кри-зис научной рациональности. Объектом исследования является шпе-товская интерпретация понятия научной рациональности. Предме-том исследования выступает экспликация методологических основа-ний в рамках проекта Г.Г. Шпета. Новизна предлагаемого исследова-ния заключается в попытке кросс-культурного и метафилософского рассмотрения философского проекта Г.Г. Шпета в сравнении с фено-менологическим проектом Э. Гуссерля и философским проектом Л. Шестова. Указывается роль проекта Г.Г. Шпета в контексте раз-вернувшейся в начале XX века полемики относительно статуса разу-ма, науки и научной рациональности. Репрезентация отмеченного ракурса шпетовской философии становится возможна благодаря рас-смотрению исторической динамики ее развития, а также посредст-вом проблематизации шпетовского подхода к анализу культуры в ка-честве топоса бытия разума. В результате феноменолого-онтологический замысел Г.Г. Шпета реактуализируется автором в качестве динамичного проекта, реализуемого от методологической рефлексии в направлении антропологии культуры. Это позволяет интерпретировать проект Г.Г. Шпета в качестве одного из вариан-тов решения проблемы кризиса научной рациональности, а также од-ного из оснований новой научной рациональности. Обоснование этой идеи становится возможным благодаря категориальному анализу концепта субъекта в философии Шпета, а также выявлению мета-физических оснований его бытия в мире культуры. Последовательно анализируется познавательный процесс. Гносеология Шпета анали-зируется автором с позиций выявления соотношений между катего-риями «онтическое» и «онтологическое». В целом рассмотрение фило-софского проекта Г.Г. Шпета осуществляется с позиций методологии науки, антропологии культуры, историко-философского исследования.
Наука, философия, разум, рациональность, субъект, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/140205729
IDR: 140205729 | УДК: 111.1
Текст научной статьи Феноменолого-онтологический замысел Г. Г. Шпета: от методологии науки к антропологии культуры
Кризис науки рубежа XIX–XX века, а также последовавшая за ним трансформация философского и научного знания, не могут не ставить перед современным научным сообществом вопроса о соотношении философии и науки. Выявляя связь между наукой конца XX – начала XXI в. с революционными процессами, случившимися в начале минувшего столетия, нельзя не указать и на то, что развитие философской мысли XX в. отмечено печатью своеобразного «разочарования» в своем, казалось бы, незыблемом конститутивном начале – разуме. В этом смысле, один из главных лейтмотивов западноевропейской философии минувшего века – идея обновления и укрепления рационализма. Отзвуки это- го призыва несложно обнаружить в таких философских проектах, как феноменология Э. Гуссерля и Р. Ингардена, критический рационализм К. Поппера и проекты представителей Львовско-Варшавской школы. Опознавательным знаком этих, казалось бы, далеких друг от друга философских проектов, является беззаветная вера в незыблемость разума и его абсолютную необходимость для культуры.
Вместе с тем история философии XX века показывает, что наряду с многоликим лагерем защитников разума возникает и стремительно развивается когорта его противников. Вследствие этого философия XX века может быть помыслена в качестве непрекращающегося поединка между защитниками разума и его непримиримыми критиками, настаивающих на том, что полная победа разума на деле будет означать лишь одно – гибель мира и жизни. Именно поэтому, отмечает Л. Шестов, главный идол западноевропейской культуры – разум должен быть не восстановлен, а, напротив, разрушен: «чтобы он разбился вдребезги» [4, с. 146].
Возможен ли в этом принципиальном и, казалось бы, бескомпромиссном споре компромисс, означающий возможность не столько договориться, сколько услышать друг друга, и прийти не столько к примирению, сколько к новой интерпретации давно набивших оскомину понятий «наука» и «рациональность»?
Постановка этого вопроса может и должна быть оправдана еще и тем, что в непрекращающемся споре вокруг статуса разума в структуре культуры практически никогда не упоминается вклад отечественной философии, за исключением, пожалуй, проекта критики отвлеченных начал В.С. Соловьева, призванного, на наш взгляд, не прояснить суть рассматриваемой проблемы, а лишь создать вокруг дискурса русской философии стереотипный ареал антирационализма, историкофилософским следствием которого является табуирование интерпретации отечественной философской мысли в качестве философии науки. Между тем, историко-философские исследования последних десятилетий XX в., призванные не столько реактуализировать, сколько причудливым образом «заново» открыть и «продолжить» традицию отечественного философствования, указывают на то, что отечественная философская мысль имеет богатые традиции, не исчерпывающиеся трудами по марксистской философии. В конце XX в. отечественное философское сообщество вновь открыло для себя труды В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, невольно породив тем самым еще один стереотип в отношении дискурса русской философии: он был маркирован печатью «религиозности». В перспективе это означает лишь одно: на передний план научного изучения наследия дореволюционной философии выдвигается не столько философская, сколько религиозная проблематика.
Между тем, в истории дореволюционной отечественной философии фигура Г.Г. Шпета стоит особняком, поскольку в его наследии обнару- живается «нетрадиционная» для русской философии проблематика, опознавательный маркер которой в настоящее время все еще не найден. Отчасти, это объясняется незаслуженным забвением фигуры философа. Но и сам замысел отечественного философа чрезвычайно сложен и многогранен: в известной степени, не будучи завершенным своим создателем, он представляет собой гетерогенное децентрированное динамичное множество, что позволяет некоторым исследователям называть, с рядом оговорок, Г.Г. Шпета – первым русским постмодернистом. Динамичность шпетовского замысла, также как и непрекращающийся поиск ме-тафилософской структуры, призванной объединить его замысел в целостный научно-философский проект, обнаруживается сегодня при анализе публикаций, посвященных наследию мыслителя: если на исходе XX в. исследователи акцентировали внимание на феноменолого-гермене-тивческой проблематике текстов Густава Шпета, то уже в XXI в. в оценках творчества этого философа начинают появляться указания на его общегуманитарный замысел, в частности, методологические идеи, значимые не только для философии, но и социально-гуманитарного знания в целом. Как отмечает томский шпетовед О.Г. Мазаева, в 2015 г. отечественное научное сообщество отметило своеобразный юбилей – 30 лет традиции непрекращающейся реактуализации наследия Г.Г. Шпета: от секции, посвященной творчеству мыслителя на международной конференции славистов в США (1985 г.) через ряд международных конференций в различных государствах западной Европы до Шпетовских дней в Томске (1989 г.). На сегодняшний день, с первых Шпетовских дней в 1989 г., Томский государственный университет провел уже 6 международных конференций, посвященных философу (1991, 1996, 1999, 2002, 2008, 2015 гг.) [2, с. 476].
В настоящее время в отечественном шпетоведении особую популярность исследователей завоевывает интерпретация проекта Г. Шпета в духе проекта философии науки. Обосновывая возможность такого рода интерпретации наследия философа, Л.А. Микешина указывает на значимость этого аспекта творчества Г.Г. Шпета, который примечателен еще и тем, что: «он разрабатывал эту проблематику задолго до того, как эти области стали самостоятельными разделами философии XX века » [3, с. 21].
Таким образом, в центре внимания данной работы находится интерпретация феномена науки, обнаруживаемая в творчестве Г.Г. Шпета на материале работ, посвященных проблеме соотнесения философии и науки, а также ряда идей, касательно особенностей новой – общекультурной рациональности. В этом смысле известная оценка творчества Г. Шпета, видящая, по мысли ее авторов, в русском философе: «родоначальника отечественной философии науки, а также методологии гуманитарного знания» [3, с. 22], должна быть дополнена усмотрением в творчестве г. Шпета истоков современной антропологии культуры, что позволяет: во-первых, ввести философему «человека как центра», актуализировав ее в качестве «неявного» основания любой модели «мира» [1, с. 5], во-вторых, рассмотреть наследие Г.Г. Шпета в контексте магистрального развития истории русской философии, полагавшей введенную философему в качестве исконно традиционной структуры познавательного процесса, отождествляющей процесс миро-сознания и миро-творения.
В этом смысле, как нам кажется, в основе разгоревшегося в философии начала XX в. спора касательно статуса разума в структуре культуры, лежит сугубо этическая дилемма: или путь рационалистической культуры, или свобода отдельно взятого индивида. В истории философии эти полярные точки зрения представлены именами достаточно близких для Шпета-человека мыслителей – его учителя Э. Гуссерля и близкого друга Л. Шестова. Возможно, что именно по этой причине Шпет в названном споре занимает позицию медиатора: с одной стороны, он воспринял феноменологию в качестве нового слова в европейской философии, с другой – сохранил недоверие к абсолютистским амбициям разума в сфере «жизненного мира», традиционно присущего дискурсу отечественной философии. Кроме того, нельзя не учитывать и антидогматического, а также герменевтического настроя Шпета-исследователя, стремившегося: «подвести всеобщий фундамент под всю громаду современного знания, указать ему его собственные корни, источник, начала, вскрыть единый смысл и единую интимную идею за всем многообразием проявлений и прорывов творческого духа в его полном и действительном самоощущении» [6, с. 10].
Таким образом, центральным концептом шпетовского подхода к поставленной проблеме является концепт «понимания», указывающий не столько на необходимость творческого развития одной из предложенных точек зрения, сколько на необходимость новой интерпретации употребляемых понятий: «наука» и «рациональность». При этом главная особенность новой интерпретации рациональности – новой рациональности, означающей для Шпета прежде всего « другой (курсив мой. – О. Д. ) способ мыслить» [5, с. 316], заключается в том, что разум и рациональность должны встать на место веры, не исключая при этом человека из пространства свободы. В результате, первоначально заявленная проблема из сферы философии и методологии науки стремительно перемещается в проблемное поле антропологии, а шире – фундаментальной онтологии.
В этом смысле проблема интерпретации рациональности, по мнению Г. Шпета, является сугубо философской проблемой, поскольку: «рационализм – первое слово, постоянное, и останется последним словом европейской философии» [5, с. 317].
Более того, вопрос о рациональности является для г. Шпета своеобразной методологической предпосылкой возможности «твердого начала философствования», а также отправным пунктом в исследовании фундамента философского знания, поскольку вопрос о рационализме – это единственно возможный, согласно Г. Шпету, путь обретения знания об основаниях [6, с. 36].
Таким образом, обращаясь к проблеме выяснения природы и форм философии, Г. Шпет в работах «Идея основной науки» и «Мудрость или знание?» практически полностью соглашается с гуссерлианским идеалом философии как строгой науки, отмечая (со)-существование различных типов философии (рационализма), которые: «не просто расположены, но, по Шпету, могут быть поняты как определенные ступени развития или формы существования философии: от мудрости, через метафизику и мировоззрение к философии как “основной”, “строгой” науке» [4, с. 25].
Надо сказать, что в процессе вычленения внутренних ипостасей – модусов философии Г. Шпет идет намного дальше, нежели Э. Гуссерль, выделявший в структуре философского знания лишь два уровня абстракции – эмпирический и теоретический, указывая на существование так называемой «научной» философии или псевдофилософии.
На наш взгляд, в понимании того, что означает понятие «псевдофилософия» для Шпета, заключается его принципиально важное отличие от Э. Гуссерля, а также специфическое, обновленное понимание русским философом феноменов науки и рациональности. Как отмечает Л.А. Микешина, согласно Г. Шпету, «псевдофилософия – это позитивистские, метафизические, теологические, гностические фантазии о “синтезе” всего знания по образцу какой-либо специальной науки. «Научная философия» складывается многочисленными направлениями (эволюционизм, психологизм, гносеологизм, историзм и др.) и не обладает единством оснований, а лишь представляет определенный тип философского знания» [3, с. 26–27].
Таким образом, именно множественность оснований, по мнению Шпета, является причиной размытости определения философии, влекущего за собой упрек в ее «антинаучности». Спасение философии от «антинаучного» флера Г. Шпет усматривает в научном исследовании ее оснований. В этом смысле философия как строгая наука фокусирует свое внимание лишь на одном объекте, выступающем одновременно ее основанием. Таким объектом является бытие, а задача философии заключается в том, чтобы исследовать его во всем многообразии его форм: «задача познания сущего во всех его формах и видах никогда не подменялась другими задачами, – от Платона и до Лотце, через Декарта и Лейбница, идет ее прямой путь » [6, с. 41].
Говоря иначе, положительная, в противоположность негативной псевдофилософии, философия как строгая наука, по мнению Шпета, представляет собой идеальное отношение к миру по аналогии с науками – всегда сугубо идеальными и эйдетическими, то есть науками о сущностях, свободных от всякого опыта и нанесения фактического. Как отмечает сам Г. Шпет, такое понимание научности и науки: ««не есть уничтожение или отрицание действительности, но это есть известное устремление нашего зрения, новая “установка” (рациональность. - О.Д.) нашего теоретического отношения, благодаря которой мы получаем возможность непосредственно переходить от “естественного” бытия в мире к бытию иного порядка и иных сущностей и, таким образом, говорить наряду с науками эмпирическими о науках идеальных» [6, с. 48].
Именно поэтому, отмечает философ в работе «Мудрость или разум?», «философия как знание - это основная наука в самом прямом и первоначальном смысле (наука основ), поэтому “она существенно принципиальна, а не онтологична”, то есть формулирует и применяет принципы, воспринимая все данное через них, то есть через сознание» [5, с. 246-247].
В чем же заключается специфическое шпетовское понимание науки, отличающее русского мыслителя от его западноевропейского наставника - феноменолога Э. Гуссерля? Исходя из идеи философии как строгой науки или, что еще более точно, понимания философии и науки в качестве различных модальностей субъективно-рационального миро-сознания, фактически тождественного миро-творению, Шпет указывает на необходимость ограничения тотальной строгости исходной рациональности касательно к продуцирующему ее субъекту. Таким образом, отличительной чертой шпетовского анализа феномена науки и лежащего в ее основании феномена рациональности является не методологический, а специфический антропологический подход, рассматривающий разум в качестве инстанции, ответственной за возможность диалога между притязаниями субъекта и окружающей его действительностью. Благодаря такой интерпретации науки и рациональности, Шпету удается, во-первых, преодолеть скептицизм тотально рационально организованной культуры в отношении субъекта; во-вторых, избавиться от нигилистического налета антирациональной интерпретации взаимоотношений субъекта с культурой, отстаивающей идеал свободы отдельно взятого человека.
Исходя из этого, можно предположить, что изначально заявленная проблема в творчестве Г.Г. Шпета трансформируется в проблему защиты разума от этической критики, не впадая при этом в морализаторство. В результате происходит, казалось бы, невозможное: «научная философия неизбежно начинает выполнять то дело, значение которого она отрицает - она сама становится философией “ненастоящей”, метафизикой, псевдофилософией» [5, с. 223], т. е. метафизикой в широком смысле, претендующей быть наукой. Согласно Шпету, именно этой философии противостоит философия как чистое знание, предметом которой является бытие в противоположность небытию. Здесь под бытием понимается данность мира сознанию субъекта через призму индивидуальных поня- тий. Иначе говоря, предметом такого рода философии, как науки, является сознание, данное самому себе и открывающееся в процессе самосознания в своей аутентичной подлинности. Задача такого рода познания заключается в понимании, или, как отмечает сам Шпет, – в получении подлинного знания о самом себе в качестве центра бытия, призванного не только конституировать последнее, но и познавать. Следовательно, речь, в конечном счете, идет о познании себя в качестве онтиче-ского начала.
По мысли Шпета, это знание призвано снять иллюзорное противопоставление науки и философии, а также реального и идельного. Более того, шпетовский подход в качестве своей конечной сверхцели, в противоположность феноменологической установки Э. Гуссерля, настаивает на необходимости репрезентации взаимосвязи указанных «бинаризмов» в условиях реального «человеческого мира», благодаря чему философский проект Г. Шпета может быть прочитан в качестве попытки «наведения мостов» между несовместимыми ранее: наукой, рациональной философией, помысленной в качестве строгой науки, а также мудростью, выступающей в качестве проекции миропонимания субъекта.
Список литературы Феноменолого-онтологический замысел Г. Г. Шпета: от методологии науки к антропологии культуры
- Круглов В.Л. Человек эпохи «модерн»: антропология культуры как критика децентрированного разума. -Красноярск, 2009. -240 с.
- Мазаева О.Г. Исследование творческого наследия Г.Г. Шпета на шестых Шпетовских чтениях//Феноменолого-онтологический замысел Г.Г. Шпета и гуманитарные проекты XX-XXI веков: сб. ст. и мат-лов междунар. науч. конф. (1-7 июня 2015 г.)/отв. ред. О.Г. Мазаева. -Томск: Изд-во ТГУ, 2015. -500 с.
- Микешина Л.А. Густав Шпет и современная философия науки//Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания. -М.: Языки славянских культур, 2006. -464.
- Шестов Л. Памяти великого философа (Эдмунд Гуссерль)//Вопросы философии. -1989. -№ 1.
- Шпет Г.Г. Мудрость или разум?//Шпет Г.Г. Философские этюды. -М.: Прогресс, 1994. -С. 222-236.
- Шпет Г.Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы//Шпет Г.Г. Мысль и Слово. Избранные труды. -М.: РОССПЭН, 2005. -688 с.