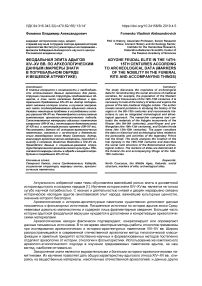Феодальная элита адыгов XIV-XV вв. по археологическим данным (маркеры знати в погребальном обряде и вещевой атрибутике)
Автор: Фоменко Владимир Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье говорится о возможности и необходимости использования данных археологии для реконструкции социальной структуры средневековых обществ, в том числе населения Западного и Центрального Предкавказья XIV-XV вв. Автор подчеркивает значение истории элиты и изучения захоронений знати позднесредневекового адыгского этноса. Названы некоторые проблемы в исследовании истории региона VIII-XV вв. Рекомендуется использование комплексного археолого-этнологического подхода. Сопоставляются материалы адыгских памятников хазарского (VIII-IX вв.), постхазарско-домонгольского (Х-XIII вв.) и золотоордынского времени (XIII-XV вв.). Рассмотрены данные об историко-археологических памятниках, связанных с личностью и деятельностью легендарного князя Инала Светлого. Автор, анализируя археологические материалы, приходит к выводу о сложении династии Иналидов в XIV-XV вв. Приводятся данные о социально-ранговой структуре белореченской археологической культуры. Обозначаются маркеры элиты в обряде и вещевой атрибутике в погребениях XIV-XV вв.
Северный кавказ, эпоха средневековья, кабарда, социальная структура, маркеры элиты, археологические памятники
Короткий адрес: https://sciup.org/149133956
IDR: 149133956 | УДК: 94:316.343.32(=470.62/.65)“13/14” | DOI: 10.24158/fik.2019.4.5
Текст научной статьи Феодальная элита адыгов XIV-XV вв. по археологическим данным (маркеры знати в погребальном обряде и вещевой атрибутике)
Актуальность избранной нами темы обусловлена важнейшей ролью элиты в досоветской истории адыгского и соседних народов [1]. Изучение истории знати XIV–XV вв. является не только сугубо научной потребностью. С жизнью и деятельностью князей и дворян неразрывно связано историческое наследие адыгов (многовековой опыт народа, важнейшие культурные ценности), значение которого бесспорно.
Археологические и историко-архитектурные памятники существенно дополняют данные письменных и фольклорных источников. Письменные источники по истории адыгов эпохи Средневековья довольно малочисленны и содержат лишь фрагментарные сведения. Большая часть истории адыгской феодальной верхушки нуждается в дополнении и конкретизации археологическими материалами.
Археологические находки фактически подтверждают, конкретизируют или опровергают данные письменных источников. В то же время некоторые методы работы этнологов применимы при исследовании археологических и историко-архитектурных памятников VIII–XV вв. Широко распространившийся в современной отечественной археологии метод типологической классификации и заметный приоритет естественно-научных и формализованных методов постепенно отдаляют археологию от истории, этнологии и фольклористики. Использование же комплексного археолого-этнологического подхода в изучении средневековых памятников адыгов, на наш взгляд, наиболее оптимально.
Захоронения знати являются выразительными и богатыми историко-археологическими памятниками. Их изучение позволяет дать общую характеристику адыгского этноса XIV–XV вв., опираясь на вещественные материалы, накопленные отечественной археологией, и данные других исторических источников. Вместе с тем работы, специально обобщающие результаты полевого изучения памятников адыгской феодальной элиты вообще и относящихся ко времени до XVI в. в частности, практически отсутствуют. Обычно памятники знати рассматривались и рассматриваются вместе с археологическими находками явно рядового, неэлитного характера.
Некоторые проблемы социальной и этносоциальной истории населения Западного и Центрального Предкавказья хазарского, постхазарского, золотоордынского и постзолотоордынского времени рассматривались в отечественной и зарубежной литературе [2]. Однако среди современных исследователей нет единого мнения о культурно-этнической принадлежности известных на сегодня в регионе археологических памятников второй половины VII – XV в. Также нет единства в понимании этнонимов «касоги», «зихи», «аланы», «болгары», «кабары», «хазары» и др. и толковании таких терминов, как аланская, касожская, белореченская и старокабардинская культуры.
Изучение погребального обряда, как и материальной культуры, средневековых этносов Предкавказья позволяет выделять культурно-этнические и социально-ранговые маркеры и связывать отдельные памятники (могильники, поселения и др.) или группы памятников с археологическими культурами и упоминаемыми в письменных источниках этнонимами, а также характеризовать историческую роль феодальной верхушки местного населения.
Социально-ранговая структура средневекового населения Западного и Центрального Предкавказья анализировалась в публикациях наших предшественников, однако вещеведческая направленность отечественной археологии и другие объективные и субъективные факторы привели к фрагментарности ввода в научный оборот и осмысления материалов памятников феодальной элиты региона. На сегодняшний день обобщающие исследования по избранной теме с использованием комплексного археолого-этнологического подхода отсутствуют. В некоторых работах проводилось сопоставление данных письменных источников и археологии о социальной структуре адыгского общества XIV–XV вв. [3], однако без анализа данных памятников привилегированных сословий и конкретизации их значения.
Происхождение династий кабардино-бесленеевских и темиргоевских князей – Иналидов [4, с. 24] связано с именем их легендарного предка князя Инала Нэху (Светлого). Основные сведения о нем доступны из записей фольклора и довольно противоречивы. Однако известный историк-кавказовед А.В. Гадло писал: «…сказание об Инале, сохранившееся в устной адыгской традиции как часть генеалогического предания, отражает историческую реальность» [5].
Вместе с тем дошедшие до нас сведения об Инале не позволяют однозначно говорить о времени его правления. Часть исследователей относят эпоху легендарного Инала ко второй половине XIV – началу XV в. [6]. Однако А.В. Гадло считал, что князь Инал жил в хазарское время [7]. Версию Александра Вильямовича поддерживает часть современных авторов [8]. Высказано предположение, что эпоха легендарного Инала относится ко времени, несколько более раннему, чем XIV в. [9]. Историк С.Х. Хотко предполагает, что правитель с именем Инал не был одним человеком (темиргоевский князь жил в конце XIII – начале XIV в., а другой представитель княжеской фамилии позднее основал Кабарду) [10, с. 34].
Вопрос определения времени жизни и деятельности Инала Светлого имеет огромное значение, поскольку позволяет установить начало истории Иналидов и их кабардинской ветви. Этот вопрос может быть решен на современном уровне накопления археологических материалов. Так, материалы погребальных памятников Западного и Центрального Предкавказья второй половины VII – IX в. показывают наличие следов социально-рангового расслоения в среде местного населения. Вероятно, две группы касогов (носители обряда кремации и наскальных захоронений) были наиболее выраженно интегрированы в военно-государственную систему Хазарии. Однако для этой эпохи вряд ли можно выделить элитные погребения, по богатству соответствующие «княжескому» уровню. Таким образом, гипотеза об истоках династии Иналидов в хазарском и постхазарском времени, разрабатывавшаяся А.В. Гадло, пока не находит подтверждения в археологических источниках. Другие группы памятников изучаемого региона второй половины VII – IX в. с обрядами захоронения в грунтовых ямах, каменных ящиках и склепах, катакомбах также пока не дают богатых комплексов «княжеского» ранга.
Впрочем, вполне возможно, что некоторые кабардинские дворянские роды, известные в письменных источниках XVIII в., начали формироваться уже в хазарскую эпоху [11, с. 13], а может быть, и раньше.
После падения Хазарии и усиления влияния Византии в Х–ХII вв. в Западном и Центральном Предкавказье появляются захоронения, которые возможно связывать с «княжеским» или близким к нему уровнем (так называемый царский мавзолей [12] у Кяфарского городища, подземные склепы на горе Дардон [13], отдельные катакомбы Змейского [14], Кольцегорского [15] и других могильников).
Особенно интересны и важны в этом отношении материалы Колосовского могильника X– XII вв. на реке Фарс в Закубанье [16], демонстрирующие развитие «касожско-кабарского» художественного стиля в оформлении оружия и конской упряжи в постхазарский и предмонгольский периоды. Этот стиль стал характерным для элитных погребений большей части Предкавказья. Художественный металл, аналогичный металлу из Колосовского некрополя X–XII вв., видимо, не просто попадал в более восточные районы Северного Кавказа. Украшения, детали упряжи, оружие и другие предметы в колосовском стиле сосредоточены в наиболее богатых захоронениях аланской знати. То, что центр производства этих изделий находился недалеко от Колосовского могильника в Закубанье, не вызывает сомнений, как и то, что этот некрополь оставлен предками адыгов. Значительное влияние колосовского производственного центра на наиболее знатную часть населения так называемой Восточной Алании подтверждает предположение о полиэтнич-ности местного населения и присутствии здесь предков адыгов.
В золотоордынское время благодаря участию генуэзских колоний в XIII–XV вв. в Северном Причерноморье существовала ордыно-латинская (южноевропейская) зона контактов [17]. Развитие этой экономической зоны было связано с восстановлением после монгольского завоевания торговых путей, ростом ремесленных центров в Крыму и Северо-Западном Причерноморье. В непосредственной близости от ордыно-латинской зоны контактов, в Закубанье в XIII в. формируется так называемая белореченская культура и соотносимый с ней социальный слой феодальной элиты ХIII–ХV вв.
Курганы у станицы Белореченской были исследованы на рубеже XIX–XX вв. Погребения воинской элиты, раскопанные здесь больше века назад, остаются наиболее выдающимися памятниками XIII–ХV вв. на Северном Кавказе. Для этого периода развития адыгской погребальной обрядности характерен синкретизм, проявившийся в сплаве элементов языческой, христианской и исламской конфессий. Феодальная элита, оставившая богатые Белореченские курганы, была не только поликонфессиональной, но и полиэтничной, что также нашло отражение в погребальном обряде и инвентаре. Местное население Северо-Западного Кавказа в ХIII–XV вв. испытывало культурное влияние ордыно-латинской контактной области. Белореченская культура (формирующийся этнос) вполне возможно имела адыго-генуэзско-ордынское происхождение.
Предложена социально-ранговая характеристика древностей белореченского типа, сопоставимая с адыгской феодальной иерархией ХVIII в. В крупных и богатых курганах были погребены князья. Богатые захоронения под небольшими насыпями принадлежали первостепенным дворянам. В малых курганах с нерядовым инвентарем были похоронены дворяне (уорки и уздени). Свободные общинники покоились в грунтовых могилах с саблями, кинжалами и наконечниками стрел. Крепостные и рабы были захоронены в грунтовых погребениях с одной, двумя вещами (ножик, кремень, огниво) или в безынвентарных могилах [18, с. 130–146].
Особого внимания заслуживает богатое погребение в медном гробу, раскопанное в 1897 г. Н.И. Веселовским в кургане у станицы Белореченской. Ранг этого погребения современными исследователями определяется как таманчи (баскак), находившийся на службе у ордынских властей [19].
С населением, оставившим Белореченские курганы, историками связывается раннефеодальное адыгское княжество Кремух, известное в источниках XV–ХVI вв. и находившееся в торгово-экономическом взаимодействии с итальянскими колониями [20].
Элементы белореченской археологической культуры в золотоордынское и постзолотоордынское время фиксируются на территории Центрального Предкавказья (материалы Баделят-ского кладбища, Заюковского I могильника, Зарагижских курганов, могильника Сухая Балка). В частности – характерные особенности погребального обряда (захоронения в так называемых медных гробах (гробах с медной обшивкой)), а также аналогии в инвентаре захоронений (фу-тляры-амулетницы, привозные сосуды и одежда, украшения и т. д.). Распространение этих элементов (а по сути культурных, этнических и социальных маркеров) на восток в Притеречье вполне согласуется с гипотезой об участии «белореченцев» в переселении в ХV в. значительной части адыгского этнического массива в Центральное Предкавказье и позволяет предполагать присутствие среди них первых представителей династии Иналидов. Носители белореченской культуры участвуют в формировании не только кабардинских, бесленеевских и темиргоевских Иналидов, но также и некоторых других элит: Басиат в верховьях Черека и Баделят в горах Дигории [21].
Непосредственно с именем родоначальника кабардинских князей связаны некоторые исторические памятники, расположенные преимущественно в Прикубанье. По данным адыгского просветителя Хан-Гирея, с Иналом связано Шанхирское (Шанджирское) крупное земляное городище, располагавшееся близ топей Кубани, между речками Псиф и Непитль [22, с. 64, 154]. В историографии давно утвердилось мнение, что могила легендарного князя Инала – Инал-куба находится в горах Абхазии, близ современного селения Псху [23]. Урочище Инал-куба расположено на Святой горе. В наши дни это место является священным и почитается абазинами и абхазами.
Однако, по сведениям краеведа Е.Д. Фелицына, руины могилы «…Инала, родоначальника кабардинских князей, находятся в 5 верстах к югу от станицы Передовой Баталпашинского уезда Кубанской области» [24]. Кроме того, в Урупско-Лабинском регионе в ХIV в. возникает ряд крупных городищ (Медногорское, Ахмет-кая, Второе Каменистое) [25]. Существование этих городищ в ХIV–ХV вв. вполне вероятно связано с деятельностью князя Инала.
Таким образом, современные материалы адыгских памятников хазарского (VIII–IX вв.), постхазарско-домонгольского (Х–XIII вв.) и золотоордынского (XIII–XV вв.) времени позволяют прийти к выводу о сложении династии Иналидов в XIV–XV вв. Именно в древностях белореченской культуры монгольского и постмонгольского времени известны элитные погребения «княжеского» уровня. В XV в. погребения с элитными чертами (маркерами) «княжеского» и «дворянского» ранга появляются в Прикумье и Притеречье.
Ссылки и примечания:
Список литературы Феодальная элита адыгов XIV-XV вв. по археологическим данным (маркеры знати в погребальном обряде и вещевой атрибутике)
- Дзамихов К.Ф. «В службе и обороне…». Кабарда и Российское государство: эпоха военно-политического сотрудничества (1550-е -начало 1770-х гг.). Нальчик, 2017. 353 с.
- Карданов Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с Российским государством в XVI -начале XIX в. Нальчик, 2001. 429 с.
- Кожев З.А. Кабарда в системе этносоциальных отношений на Северном Кавказе (ХVIII в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1998. 31 с.
- Мальбахов Б.К. Кабардинская феодальная аристократия во взаимоотношениях России с Кабардой и другими народами Северного Кавказа (вторая половина XVI -70-е гг. XVIII в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 1995. 29 с.
- Алексеева Е.П. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии. М., 1971. 355 с.
- Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа в IV-X вв. Л., 1979. 216 с.
- Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа Х-ХIII вв. СПб., 1994. 236 с.
- Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. 261 с.
- Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars. Princeton, 1954. 293 p.
- Kouznetsov V., Lebedynsky Ia. Les Alains: Cavaliers des steppes, seigneurs du Caucase Ier -XVe siècles apr. J. C. Paris, 2005. 281 p.
- Голубев Л.Э. Адыги в XIII-XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие. Краснодар, 2017. 191 с.
- Дружинина И.А. Погребальные памятники Северо-Восточного Причерноморья и Северного Кавказа XIII-XVIII вв. как источник по истории адыгских народов: дис. … канд. ист. наук. М., 2018. 622 с.
- Стрельченко М.Л. Некоторые вопросы социально-экономической и культурной жизни адыгских племен Северо-Западного Кавказа в XIII-XV вв.//Исторические науки. Научные труды Краснодарского пединститута. Краснодар, 1969. Вып. 103.
- Тарабанов В.А. Социальные отношения адыгов в X-XV вв.//Древности Кубани. Краснодар, 1997. Вып. 5. С. 33-37.
- Хотко С.Х. Генезис адыгского (черкесского) этнополитического пространства в XIII-XVI вв.: проблемы и перспективы исследования: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Майкоп, 2017. 51 с.
- Гадло А.В. Князь Инал адыго-кабардинских родословных//Исторический вестник. Нальчик, 2005. Вып. I. С. 423.
- Озова Ф.А. К вопросу о происхождении княжеской династии Черкесии//Археология и этнология Северного Кавказа. Нальчик, 2012. № 1. С. 134-158.
- Гадло А.В. Северный Кавказ в XII -начале XIII в. Предания о Кабарде Тамбиеве//Исторический вестник. Нальчик, 2006. Вып. IV. С. 560-576.
- Гадло А.В. Тмутараканские этюды. II (держава князя Инала и его потомков)//Исторический вестник. Нальчик, 2005. Вып. II. С. 447-465.
- Мекулов Д.Х. Органы власти адыгов в прошлом (I тыс. до н. э. -XIX в. н. э.)//Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. 2014. № 5 (29). С. 107-111.
- Пьянков А.В. Князь Инал и предки адыгов//VIII Твердовские чтения: сборник материалов научно-практической конференции. Краснодар, 2016. С. 211-216.
- Хотко С.Х. Генеалогические предания об Инале и их связь с легендарными версиями происхождения черкесских мамлюков//Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар, 2015. Т. 7, № 7-1. С. 29-37.
- DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-7/1-29-37
- Фоменко В.А. Древности долины реки Хасаут и другие археологические памятники Северного Кавказа (вопросы культурно-этнической принадлежности). Нальчик, 2016. 81 с.
- Охонько Н.А. Семантика изображений аланской гробницы ХI в. Кяфарского городища//Аланская гробница ХI в.: сборник. Ставрополь, 1994. С. 3-34.
- Кузьминов А.К. Средневековый могильник на горе Дардон у Карачаевска//Труды Карачаево-Черкесского НИИ. Серия историческая. Ставрополь, 1970. Вып. 6. С. 396-422.
- Чагаров К.Т. Средневековый склеп Дардонского могильника//Труды Карачаево-Черкесского НИИ. Серия историческая. Ставрополь, 1970. Вып. 6. С. 423-435.
- Кузнецов В.А. Змейский катакомбный могильник XI-XII вв. (по раскопкам 1957 г.)//Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Орджоникидзе, 1961. Т. 1.
- Кузнецов В.А. Раскопки Змейского катакомбного могильника в 1959 г.//Аланы: история и культура. ALANICA -III. Владикавказ, 1995.
- Савенко С.Н. Этнокультурная принадлежность богатых погребений конца ХI -первой половины ХII в. могильника Кольцо-гора//Этнокультурные проблемы эпохи бронзы Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1986. С. 75-92.
- Дитлер П.А. Могильники в районе п. Колосовка на р. Фарс//Сборник материалов по археологии Адыгеи. Майкоп, 1961. Т. II.
- Дитлер П.А. Могильник Колосовка № 1 (раскопки экспедиции Адыгейского НИИ в 1962 г.)//Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1985. С. 150-187.
- Приймак Ю.В. К хронологии османского присутствия в Северо-Восточном Причерноморье. Армавир, 1997. С. 6-7.
- Ловпаче Н.Г. Этническая история Западной Черкесии. Майкоп, 1997. 168 с.
- Горелик М.В., Дружинина И.А. Уникальное погребение воина золотоордынского времени на р. Белой//Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. М., 2011. № 2. С. 39-63.
- Горелик М.В. Панцирь танмачи из медного гроба//Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. М., 2011. № 2. С. 79-89.
- Кузнецов В.А. Забытый Кремух//От Тмутаракани до Тамани: сборник Русского исторического общества. М., 2002. № 4 (152). С. 206-216.
- Кузнецов В.А. Археологические данные о происхождении дигорских Баделят//Археология и этнология Северного Кавказа. Нальчик, 2012. Вып. 1. С. 99-109.
- Фоменко В.А. О роли белореченской археологической культуры в этногенезе населения Центрального Кавказа//Общество: философия, история, культура. Краснодар, 2018. № 3. С. 40-43.
- DOI: 10.24158/fik.2018.3.8
- Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978. 333 с.
- Ложкин М.Н. Фотографии Е.Д. Фелицына «Кубанские древности»//I Кубанская археологическая конференция: тезисы докладов. Краснодар, 1989.
- Ложкин М.Н. Фотографии утраченных памятников кубанской старины//Историко-археологический альманах. Армавир, 1996. Вып. 2. С. 132-136.
- Цокур И.В. Комплекс материалов XIV-XV вв. Медногорского городища//Древности Кубани. Краснодар, 1997. Декабрь. С. 27-32.