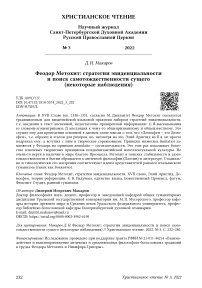Феодор Метохит: стратегии эвиденциальности и поиск самотождественности сущего (некоторые наблюдения)
Автор: Макаров Дмитрий Игоревич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3 (102), 2022 года.
Бесплатный доступ
В XVII Слове (ок. 1330-1331, согласно М. Джиганте) Феодор Метохит пользуется традиционным для византийской языковой практики набором стратегий эвиденциальности, т. е. введения в текст косвенной, недостаточно проверенной информации: 1) Я-высказывания со словами-эгоцентриками; 2) апелляция к чему-то общепризнанному и общеизвестному. Это служит ему для проведения основной в данном слове мысли о том, что «Демосфен - это Демосфен», т. е. образец и эталон для риторов, но, несмотря на это, Элий Аристид во II в. не просто подражал ему, а вступил с ним в творческое соревнование. Принцип мимесиса (imitatio) заменяется у Феодора на принцип aemulatio - состязательности. Это еще раз показывает богатство ключевых творческих принципов поздневизантийской интеллектуальной культуры. Не очень-то веруя в наличие в мире благого Промысла, Метохит в поисках стабильности и самотождественности в бытии обращается к античной философии (Плотин) и литературе. Стадиально и типологически его воззрения соответствуют идеям представителей раннего итальянского гуманизма (таких как Боккаччо).
Феодор метохит, стратегии эвиденциальности, xvii слово, элий аристид, демосфен, теория референции, е. в. падучева, единство языка, божественный промысл, фатум, феоктист студит, ранний гуманизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140295640
IDR: 140295640 | УДК: 1(091)"13" | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_3_232
Текст научной статьи Феодор Метохит: стратегии эвиденциальности и поиск самотождественности сущего (некоторые наблюдения)
Funding: The research was made possible with the financial support of RFBR grant no. 21-011-44214 “The Interaction and Mutual Attraction of Antique and Medieval Philosophical and Theological Traditions in the Work of Theodore Metochites and Nicephorus Gregoras”.
Введение
Настоящая работа продолжает одну из наших предыдущих публикаций, посвященную памяти Маргариты Адольфовны Поляковской (1933–2020) [Макаров, 2020], и затрагивает один из последних и итоговых трудов Великого логофета Феодора Метохита (ок. 1270-1332) — Слово XVII. «Сопоставление и оценка славы и достижений двух риторов — Демосфена и Аристида» (1330-1331) [Gigante, 1969, 10]. Поскольку подход Метохита к окружающей действительности может быть назван филологическим (в смысле С. С. Аверинцева1), постольку и наш этюд неизбежно обращается к методам философии, филологии и языкознания как к граням единого кристалла, позволяющего увидеть глубины духовной культуры человечества. Подобный подход близок и современной философии языка, особенно если учесть, что «философия ХХ в. развивается под знаком языка» [Арутюнова, 1999, 324].
В первой части статьи мы пытаемся определить основные стратегии эвиденци-альности (т. е. ввода несамоочевидной, косвенно засвидетельствованной информации) в тексте XVII Слова; во второй ее части на одном примере показываем актуальность источника для обсуждения современных проблем референции; наконец, в третьей секции кратко затрагиваем проблематику Промысла и онтологии тварного бытия. Наша цель на протяжении всей статьи — рассмотреть эти грани мысли Метохита и его риторической практики как аспекты единой системы, единого и универсального — не только теоретического, но и практико-ориентированного — гуманистического отношения к миру.
Метохит и теория эвиденциальности: к постановке проблемы
Что же такое эвиденциальность и каково ее отношение к рассматриваемым у Метохита проблемам?
В византийском языке, как и в русском, «мы имеем лексические средства кодирования эпистемической информации — ментальные глаголы и глаголы чувственного восприятия, а также различные модальные и дискурсивные слова, — но во многих других языках для этой цели используются средства грамматические» [Майсак, Та-тевосов, 2000, 70]. Эвиденциальность — это непрямая очевидность; повествование о чем-либо «в режиме эвиденциальности» вводится в структуру фразы такими оборотами, как говорят, как кажется, по-видимому, с его слов и т. п. Как и эпистемическая модальность, эвиденциальность относится к «эгоцентрическим элементам языка» [Майсак, Татевосов, 2000, 71]2. Явление эвиденциальности возникает только там, где утрачена/утрачивается эпистемическая ясность и наблюдается «эффект потери контроля над ситуацией» [Майсак, Татевосов, 2000, 78]. Она связана с косвенным восприятием сообщаемой в предложении/рассказе информации.
Ясно, что «в русском языке наблюдатель, т. е. субъект восприятия, проявляет себя почти так же, как субъект сознания» [Падучева, 2013, 185] (разумеется — активного и всматривающегося в мир). Очевидна справедливость сказанного и для византийского языка — что и подтверждается идеями Метохита. С подобного рода восприятий и начинается «максимальная возможная история» (термин Алана Тимберлейка [Timberlake, 1985, 46]) эвиденциальности — и познания в целом.
Любой «прецедентный фрагмент опыта» [Голубева, 2016, 115] выделяется и отграничивается нами с опорой на чувственные восприятия, особенно зрительные и слуховые. Главным маркером эвиденциальности в любом языке всегда будет маркер визуальности (я говорю о том, что вижу в данный момент) [Aikhenvald, 2014, 7]. При этом ни в одном языке нет специальных маркеров для трех остальных чувств (кроме зрения и слуха) [Aikhenvald, 2014, 8]3. Тем самым подтверждается мысль о центральной роли визуального кода — и созерцания — в культуре вообще.
Метохит показывает (по крайней мере, такой вывод прочитывается из его трудов), что если чье-либо созерцание пассивное, то оно не может быть гносеологическим основанием не то что для очевидности, но даже и для эвиденциальности4. Как минимум, его рассуждения о деятельной роли восприятия не идут вразрез с открытиями современной лингвистики.
Что касается стратегий эвиденциальности5 у Метохита, то для него характерны два, по-видимому, наиболее типичных ее маркера: 1) обилие Я-высказываний с первичными и вторичными эгоцентриками в их составе; 2) апелляция к универсальности и общепонятности того, о чем он говорит. Приведем пример того и другого из 2-й главы XVII Слова:
-
1) «Итак, да будет вам известно6, что вот уже много лет, как я перестал трудиться во благо других, уделяя им свое время (διατρίβειν), и всецело предался философии, особенно в ее математической части, а также и в любой иной (если таковая обрящется). Я был захвачен испепеляющей любовью к тем чарам, что таит в себе каждая из них, и теперь окончательно и бесповоротно предан ей (философии. — Д. М. ) — ничуть не меньше, чем железо влечется притягивающим его камнем (т.е. магнитом. — Д.М. )» ( Teodoro Metochites. Saggio critico™ Р. 48.1-6. Сар. II)7;
-
2) «Уж это-то совершенно ясно (Kal 5qTa tout eu 5qXov)8 и для всякого человека, обладающего умом, не представляет ни малейшей трудности для понимания…» ( Teodoro Metochites. Saggio critico™ Р. 48.11-12. Cap. II) (презумпция всеобщности и универсальности сообщаемого знания).
Идеал ясности , опять же, восходит к зрительной метафоре: в основе знания — четкое видение сути предмета, или его эйдоса/эйдосов (в истории мысли это — линия Платона, неоплатоников, Николая Кузанского, Гуссерля, Шпета, Лосева (ср.: [Basti, 2017, 56-57]). Здесь, как и в ряде аналогичных случаев, эвиденциальность выражается чисто семантически, а не при помощи грамматических или морфологических категорий. Подчеркнуть еще раз взаимосвязь этих уровней структуры языка и мысли было бы небесполезно — в соответствии с заветом Романа Якобсона: «Лингвистика имеет дело с языком, взятым в единстве всех его сторон — с языком в действии, с языком в его подвижности, с языком в состоянии зарождения и на стадии исчезновения» [Jakobson, 1956, 55]. Онтологическим же обоснованием эвиденциальности и очевидности является: а) активность структур нашего восприятия; б) владение навыками их должного осмысления и переработки в слове (на трудностях этого процесса и их интерпретации Метохитом мы остановились в предыдущей работе [Макаров, 2020]).
Итак, текст XVII Слова, как заявляет сам автор, — философский. (То же справедливо и применительно к тексту Х Слова, и к «Памятным запискам».) Его зачин похож на целый ряд других зачинов из относящихся к разным жанрам писаний позднеантичных и средневековых интеллектуалов, например:
«Symmachus patricius et consul ordinarius vir philosophus qui antiqui Catonis fuit novellus imitator sed virtutes veterum sanctissima religione transcendit…» («Симмах, патриций и ординарный консул (485 г. — Д. М. ), муж, преданный философии, бывший новым подражателем древнего Катона, но превзошедший добродетели древних благодаря [нашей] святейшей религии…»)9.
Одно из ключевых слов здесь, важное и для Метохита, — transcendit. Метохит также учил о преодолении личностью своей природы («Об образованности») (Феодор Метохит, 2020, 78–80; Θεόδωρος Μετοχίτης, 2002, 62.18–19) и даже в более частных вопросах литературно-филологической критики преодолевал условности — жанра син-крисиса, традиций Плутарха, Фотия и т. д. Он умел видеть сам, и видел дальше других.
Демосфен — это Демосфен. Метохит и теория референции
«В некоторых контекстах, — пишет в своей основополагающей книге Е. В. Падучева, — понимание смысла предложения с обязательностью требует обращения к внеязыковым знаниям о предмете, обозначенном собственным именем; так, фраза Париж всегда Париж лишена смысла для человека, который ничего не знает об этом городе… Если концепт оказывается скрыт за собственным именем, слушателю приходится восстанавливать этот концепт в меру его знания мира, а не языка (выделено нами. — Д. М. ), ср. Это, несомненно, так, потому что мне сказал об этом Аверинцев … в некоторых случаях понимание смысла предложения требует обращения к свойствам обозначаемых объектов, а не только к смыслу слов…» [Падучева, 2010, 82; Татевосов, 2010, 19–20].
Прекрасный пример этого находим в 29-й главе XVII Слова Метохита. Ставя вопрос о сопоставительной характеристике стиля обоих риторов, Метохит произносит фразу: «Так вот, Демосфен и в этом — Демосфен (Καὶ Δημοσθένης ἐστὶν ὁ Δημοσθένης κἀνταῦθα)» ( Teodoro Metochites. Saggio critico… Р. 76.7–8. Cap. XXIX).
Для понимания данной фразы мало знать, кто такой Демосфен. Нужно быть в курсе и высокой оценки этого оратора Гермогеном в его стандартном учебнике риторики, легшем в основу учебных курсов по ней вплоть до XIV в. На эту оценку Метохит сам ссылается в предыдущей, 28-й главе10, замечая, что Демосфен всегда и везде «держит марку». Поэтому само его имя как таковое и может выступать референтом — и гарантом — качества риторических слов, т. е., собственно, «знаком качества». И хотя высказывание Метохита о Демосфене вполне конкретно-референтно, само имя древнего ритора превращается для него в символ «классичности» (по-види-мому, примерно так же мы воспринимаем Гоголя, а французы — Мольера и Расина). Именно поэтому Демосфен и стал благодетелем всех греческих ораторов, живших после него, «наставником в обращении к прекраснейшему (ἡγεμὼν τῆς χρήσεως τῶν καλλίστων)» ( Teodoro Metochites. Saggio critico… Р. 77.12. Cар. ХХХ), «на все века предводителем (ἡγεμὼν) данного рода искусства» ( Teodoro Metochites. Saggio critico… Р. 78.13– 14. Cар. XXXI) и «словно бы одушевленной стелой» ( Teodoro Metochites. Saggio critico… Р. 82.10–11. Cар. ХХХV) для будущих поколений. Он достиг «совершенства в прекраснейшем навыке речи (τῆς καλλίστης ἐν τῷ λέγειν ἕξεως)». Здесь имеется в виду именно навык произнесения публичных речей, т. е. совершения цельных и законченных, направленных на аудиторию речевых актов. Иначе говоря, то самое «производство конкретного предложения в определенных условиях», которое и «есть иллокутивный акт, а иллокутивный акт есть минимальная единица языкового общения» [Сёрль, 1986, 152]. Нам бы представлялось, что Метохиту в такого рода рассуждениях важен именно «целостный внутренний контекст осуществления процессов познания и общения» [Голубева, 2016, 181] в их конкретном жизненном многоединстве.
Вместе с тем Метохит — вопреки, казалось бы, устоявшимся представлениям о мимесисе как о центральном и системообразующем принципе византийской культуры — проводит мысль о том, что Элию Аристиду не было бы никакого оправдания, если бы он решился просто копировать Демосфена, т. е. говорить о том же, о чем и великий афинянин, и притом словами этого последнего (при том, что Демосфен уже высказывался на аналогичные темы) ( Teodoro Metochites. Saggio critico… Р. 80.1–25. Cар. ХХХIII)11. Т. е. необходимо ориентацию на великие образцы прошлого, сознательную традиционность совмещать с собственным творческим подходом. Завершается эта 33-я глава следующим выразительным пассажем, в котором — в соответствии с принципами Евсевия, иконопочитателей (а в рамках большого времени культуры — и о. П. Флоренского с Витгенштейном) — совмещаются звуковой и зрительный код:
«Результат был бы, поистине (я даже не знаю, может ли что-либо быть более истинным), „переплетением несочетаемого (τὸ τὰ ἀσύγκλωστα συνάπτειν)“12, по поговорке, или — согласно принятому у дорийцев изречению — „более высокими струнами, которые суть ничто по сравнению с самой низкой“, — так что в итоге все его части, спутавшись, образовали бы столь мятое платье и столь фальшивую мелодию, что никто не мог бы удержаться от смеха, взирая на него или слушая подобное звучание» ( Teodoro Metochites . Saggio critico… Р. 80. 25–30. Cар. ХХХIII).
Помимо очевидных отсылок к практике чтения литературно-художественных текстов в театрах интеллектуалов — выразительным голосом, нараспев, с аккламациями, под музыку тех же авлосов13, в этих строках отразилась установка на объединение двух взаимодополняющих кодов культуры (зрительного и звукового). Слово и икона как раз и выступают центральными метасимволами этих кодов. Что же касается Метохита, то его литературно-критические суждения отличаются завидной независимостью от каких бы то ни было образцов [Beck, 1952, 11,12, 39].
Феодор Метохит и Феоктист Студит о самотождественности сущего и Божественном Промысле
Метохит стремится к постоянству в бытии и слове. Тем и ценны слова Демосфена, что они представляют собой словно бы вечно текущий поток, тождественный себе самому ( Teodoro Metochites . Saggio critico… Р. 81. 22–24. Cар. ХХХIV). Страницей ранее идет речь о «единовидном и самотождественном смешении» (ἑνοειδῆ καὶ τὴν αὐτὴν κρᾶσιν) как высшем достоинстве речей того же оратора ( Teodoro Metochites . Saggio critico… Р. 80. 18–19. Cар. ХХХIII). Использованная здесь плотиновская терминология ( Plot. Enn. VI.9.5) важна для Метохита, поскольку Самого Бога он описывает как «единовидную (ἑνοειδοῦς) природу» (Феодор Метохит, 2020, 49–51)14. Поэтому степень высказываемой им Демосфену похвалы — максимальная.
Важен и смысл только что приведенного выражения. Самотождественна и целостна — по крайней мере, изначально — любая душа (мы сейчас отвлекаемся от разработок психоаналитиков). Не говоря уже о патристике, можно вспомнить и Витгенштейна: «…составленная из частей душа уже не была бы вовсе душой» (Eine zusammengesetzte Seele wäre nämlich keine Seele mehr)
(ЛФТ 5.5421b)15. Но именно этой самотождественности бытия самому себе, его стабильности и определенности Феодору и не хватает.
Отсюда мысль нашего автора естественно перетекает к учению о Промысле, констатируя Его малозаметность (или даже нехватку) во вселенной. Для описания нашей бедственной ситуации мыслитель прибегает к аналогии: мир — огромный невод, в котором все мы барахтаемся в бурю, опасаясь погибели (Феодор Метохит, 2020, 197; Θεόδωρος Μετοχίτης, 2002, 208.21–210.2). И хотя церковные авторы, современные Метохиту, соглашались с тем, что «Промысл Творца непостижен для смертных» (Феоктист Студит: Канон IV, 2008, 185.26), они все же не впадали в столь пессимистическую антропологию, а учили о подобии Богу по «гномическому свойству воли» (Феофан Никейский) и об обожении. Метохит тоже учит о деятельности, но иного рода — о культурно-научной. Ведь Бог Своим Промыслом просвещает ум святого от помрачения страстьми (Феоктист Студит: Канон V, 2008, 191) — перед нами хоть и топос духовно-аскетической литературы, но топос в высшей степени показательный. Если Метохит даже на уровне антропологии четко не различал личность и природу, то у Феоктиста Студита это различие проводится предельно недвусмысленно: спасение — это процесс взаимодействия свободных личностей, в ходе которого Бог как абсолютная Личность призирает свыше на смиренную личность святого. Такого смирения в трактатах Метохита (если не считать его Похвальных слов святым) мы не встретим.
Впрочем, не исключено, что Метохит мог бы понять и даже где-то в глубине сознания принять следующее соображение Ницше: « Навязать становлению характер бытия — вот высшая воля к власти »16. Мы далеки от утверждения о том, будто Метохит был сторонником идей Ницше о вечном возвращении как о вершине созерцания, Gipfel der Betrachtung [Бибихин, 2005, 263, прим. 2]; напротив, он сожалел, что древние уже все сказали и на нашу долю не остается нового. Но, в конечном счете, помимо Бога, идеальный пример такого рода гармонии, самотождественности и совершенства он находил как раз в текстах древних — в частности, в речах Демосфена и Элия Аристида. Его воззрения стадиально и по существу в целом соответствуют тому, что принято понимать под ранним гуманизмом (Данте, Петрарка, Боккаччо), но обнаруживают ряд моментов общности и с более зрелым гуманизмом Альберти (ср.: (Феодор Метохит, 2020, 107, 183, 187, 214–215)).
Наконец, можно сделать и методологический вывод: нам представляется, что текст Метохита являет собой византийское подтверждение действенности современных теорий эвиденциальности.
Список литературы Феодор Метохит: стратегии эвиденциальности и поиск самотождественности сущего (некоторые наблюдения)
- Аверинцев (1972) — Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия. М., 1972. Т. 7. Стб. 973-979.
- Арутюнова (1999) — Арутюнова Н.Д. Человек и «фигура» (анализ концептов) // Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. 2-е изд., испр. (Язык. Семиотика. Культура). С. 324-337.
- Бибихин (2005) — Бибихин В.В. Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005. (Bibliotheca Ignatiana. Богословие, духовность, наука).
- Витгенштейн (2005) — Витгенштейн Л Логико-философский трактат / Пер. с нем. B. П. Руднева // Витгенштейн Л. Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. П. Руднева. М., 2005. (Университетская библиотека Александра Погорельского. Серия «Философия»). C. 14-221.
- Голубева (2016) — Голубева О.В. Теория эвиденциальности выводного знания: психолингвистический подход. Дис. ... докт. филол. наук. Тверь, 2016.
- Майсак, Татевосов (2000) — Майсак Т.А., Татевосов С.Г. Пространство говорящего в категориях грамматики, или Чего нельзя сказать о себе самом // Вопросы языкознания. 2000. № 5. С. 68-80.
- Макаров (2018) — Макаров Д.И. Трактат «Об образованности» Феодора Метохита и некоторые аспекты понятия созерцания у позднего Бергсона: к проблеме перекличек // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Волгоград, 2018. С.48-59.
- Макаров (2020) — Макаров Д.И. «Сегодня, когда времена уже поздние.» Феодор Ме-тохит о сильных и слабых сторонах процесса речевой коммуникации // Античная древность и Средние века. 2020. Т. 48. Памяти М. А. Поляковской. С. 136-155.
- Падучева (2010) — Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: Референциальные аспекты семантики местоимений / Отв. ред. В. А. Успенский. Изд. 6-е, испр. М., 2010.
- Падучева (2011) — Падучева Е.В. Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего // Вопросы языкознания. 2011. № 3. С. 3-18.
- Падучева (2013) — Падучева Е. В. Русское отрицательное предложение. М., 2013. (Studia Philologica).
- Сёрль (1986) — Сёрль Дж.Р. Что такое речевой акт? / Пер. с англ. И.М. Кобозевой // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов / Сост. и вступ. статьи И. М. Кобозевой, В. З. Демьянкова. М., 1986. С. 151-169.
- Татевосов (2010) — Татевосов С.Г. Акциональность в лексике и грамматике. Автореф. дис. . докт. филол. наук. М., 2010.
- Феоктист Студит: Канон IV(2008) — Феоктист Студит. Канон IV св. Афанасию I Константинопольскому (1289-1293, 1303-1309), песнь 3 // Afentoulidou-Leitgeb I. Die Hymnen des Theoktistos Studites auf Athanasios I. von Konstantinopel. Einleitung, Edition, Kommentar. Wien, 2008. (Wiener Byzantinische Studien, XXVII).
- Феоктист Студит: Канон V(2008) — Феоктист Студит. Канон V св. Афанасию I Константинопольскому, песнь 1 // Afentoulidou-Leitgeb I. Die Hymnen des Theoktistos Studites auf Athanasios I. von Konstantinopel. Einleitung, Edition, Kommentar. Wien, 2008. (Wiener Byzantinische Studien, XXVII).
- Феодор Метохит (2020) — Феодор Метохит. Слово о нравственных проблемах, или Об образованности / Пер. со среднегреч. и вступ. ст. Д. И. Макарова; коммент. Я. Поле-миса, Д. И. Макарова. СПб., 2020. (Paradeigmata Byzantina, 1).
- Aikhenvald (2014) — Aikhenvald A.Y. The grammar of knowledge: a cross-linguistic view of evidentials and the expression of information source // The Grammar of Knowledge. A Cross-Linguistic Typology / Ed. by A.Y. Aikhenvald, R. M. W. Dixon. Oxford, 2014. (Explorations in Linguistic Typology, 7). P. 1-51.
- Basti (2017) — Basti G. The Post-Modern Transcendental of Language in Science and Philosophy // Epistemology and Transformation of Knowledge in the Global Age / Ed. by Z. Delic. Rijeka, 2017. P. 35-61.
- Beck (1952) — Beck H.-G. Theodoros Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. München, 1952.
- The Fragmentary Latin Histories (2020) — The Fragmentary Latin Histories of Late Antiquity (AD 300-620) / Ed., trans. and comm. by L. van Hoof, P. van Nuffelen. Cambridge, 2020.
- Gigante (1969) — Gigante M. Introduzione // Teodoro Metochites. Saggio critico su Demostene e Aristide / A cura di M. Gigante. Milano; Varese, 1969. (Testi e documenti per lo studio dell'antichità, XXVII). Р. 9-40.
- Hunger (1973) — Hunger H. On the Imitation (Mimesis) of Antiquity in Byzantine Literature // Hunger H. Byzantinistische Grundlagenforschung. Gesammelte Aufsätze. London: VR, 1973. XV.P. 17-38.
- Jakobson (1956) — Jakobson R Two Aspects of Language and Two Types of Aphasie Disturbances. I. Aphasia as a Linguistic Problem // Jakobson R, Halle M. Fundamentals of Language. 's-Gravenhage, 1956. (Janua Linguarum. Studia Memoriae Nicolai Van Wijk Dedicata).
- Makarov (2019) — MakarovD.I. An Irreproachable Dogmatics? Plotinus, Theodore Metochites and the Sixth Chapter of the Letter On Education // Scrinium. 2019. Vol. 15. P. 211-217.
- Teodoro Metochites. Saggio critico (1969) — Teodoro Metochites. Saggio critico su Demostene e Aristide / A cura di M. Gigante. Milano; Varese, 1969. (Testi e documenti per lo studio dell'antichita, XXVII).
- The Fragmentary Latin Histories (2020) — The Fragmentary Latin Histories of Late Antiquity (AD 300-620) / Ed., trans. and comm. by L. van Hoof, P. van Nuffelen. Cambridge, 2020.
- Timberlake (1985) — Timberlake A. The Temporal Schemata of Russian Predicates // Issues in Russian Morphosyntax / Ed. by M. S. Flier, R. D. Brecht. Columbus, Ohio, 1985. (UCLA Slavic Studies, 10). P. 35-57.
- Wittgenstein (1961) — Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus / The German text, with a new Trans. by D. F. Pears & B. F. McGuinness; intr. by B. Russell. London; New York, 1961. (International Library of Philosophy and Scientific Method).