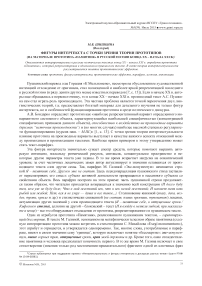Фигуры интертекста с точки зрения теории прототипов (на материале прототипа «памятник» в русской поэзии конца XX - начала XXI в.)
Автор: Шишкина Мария Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Описываются интерпретируемые в русских поэтических текстах конца XX - начала XXI в. атрибуты прототипа «Памятник», который репрезентирован в одноименном пушкинском тексте. В свете теории интертекстуальности рассматривается понятие прототипических эффектов.
Прототип, фигура интертекста, прототипические эффекты, парафраз, аллюзия, аппликация
Короткий адрес: https://sciup.org/14822304
IDR: 14822304
Текст научной статьи Фигуры интертекста с точки зрения теории прототипов (на материале прототипа «памятник» в русской поэзии конца XX - начала XXI в.)
Пушкинский перевод оды Горация «К Мельпомене», несмотря на обусловленное художественной интенцией отхождение от оригинала, стал полноценной и наиболее яркой репрезентацией последнего в русской поэзии (в ряду девяти других менее известных переводов [7, с. 15]). Если в начале XX в. авторы еще обращались к первоисточнику, то в конце XX – начале XXI в. производный текст А.С. Пушкина сам стал играть роль производящего. Эта частная проблема является точкой пересечения двух лингвистических теорий, т.к. предоставляет богатый материал для детального изучения не только фигур интертекста, но и особенностей функционирования прототипа в среде поэтического дискурса.
А.В. Бондарко определяет прототип как «наиболее репрезентативный вариант определенного инвариантного системного объекта, характеризующийся наибольшей специфичностью (концентрацией специфических признаков данного объекта), способностью к воздействию на производные варианты (признак “источник производности”) и (во многих случаях) наиболее высокой степенью регулярности функционирования (курсив наш. – М.Ш. )» [1, с. 13]. С точки зрения теории интертекстуальности влияние прототипа на производные варианты выступает в качестве важного аспекта отношений между производным и производящим текстами. Наиболее ярким примером к этому утверждению может стать текст-парафраз.
Эта фигура интертекста значительно сужает спектр средств, которые помогают выразить авторскую интенцию, поскольку ритмический рисунок, синтаксис, концептуальное пространство и некоторые другие параметры текста уже заданы. В то же время возрастает нагрузка на семантический уровень: за счет частичных лексических замен автор актуализирует в значении оставшихся от производящего текста слов другие семы. Так, парафраз М. Галиной «Экс-монументум» начинается строкой Я – памятник себе. Другого мне не светит . Здесь псевдопарцелляция пушкинского стиха заставляет пересматривать его смысл: субъект активной деятельности превращается в пассивного субъекта со свойствами объекта. Весь парафраз построен на этом приеме: часть пушкинской строки продолжается таким образом, что читателю приходится возвращаться к значению всей конструкции (И долго буду тем, кем уж не буду боле; Что в мой жестокий век, что в век немой жестокий; И назовет меня всяк рыбой или жабой; Нет, вся я не умру — душа и все такое...). Столкновение книжной ( хвалу, дева, воздев, тропа, крыла и др.) и стилистически сниженной ( не светит, плешь проевши, туповатою ) лексики, актуализация других значений у слов производящего текста ( Я – памятник себе, в отпущенные сроки / Кифозного столпа ), аллюзия на другой – блоковский – текст ( И я взойду в метели зыбкой, при маскхалате и венце ) – все это обнаруживает отхождение от прототипа, репрезентированного в пушкинском тексте.
Один из атрибутов прототипа «Памятник», реализованного пушкинским текстом, – гарантирующий бессмертие. В тексте М. Галиной, основанном на метафизически телесном образе памятника (сходную интерпретацию прототипа можно встретить в стихотворении С. Михайлова «Exegi monumentum»), этот атрибут и отрицается, и утверждается одновременно. Так, многие слова, употребляемые в парафразе, имеют в своем значении сему ‘граница’, которую исключает понятие «бессмертие»: экс-монумен-тум, ниже сорных трав, отпущенные сроки, края моей державы и др. Кроме того, само отождествление памятника и человека предполагает конечность первого. В то же время М. Галина включает в свое стихотворение (изменив только род местоимения-прилагательного) фрагмент одной из ключевых фраз производящего текста: Нет, вся я не умру – душа и все такое... Так обеспечивается «мерцание» одного из атрибутов прототипа, что уже является отхождением от идеального варианта, поскольку А.С. Пушкин четко разграничивает смертность человека и бессмертие его творений как отражения его души.
Уже на этом примере видно, что парафраз служит, с одной стороны, инструментом создания гипертекста в рамках художественного дискурса, с другой – благоприятной средой для появления прототипических эффектов. Последние заключаются в наличии в той или иной категории единиц, свойства которых отличаются от свойств центрального представителя данной категории [2; 3]. Яркую иллюстрацию этого явления представляет собой синонимический ряд.
Другие фигуры интертекста – аллюзия и аппликация – также способствуют появлению прототипических эффектов, поскольку часто трансформируют за счет нового контекста значение слова или фрагмента производящего текста. Так, Н. Байтов в поэме «Нескончаемые сетования» при обращении к прототипу из пушкинского стихотворения актуализирует прямое значение лексемы памятник («скульптурное сооружение в память или в честь какого-л. лица или события» [4]), употребляя слова пьедестал, постамент, гранитный, а также используя аппликацию: в его прорехах ты за ним / вплотную следуешь, как эхо... / Когда-нибудь мы вспомним это, / и не поверится самим. Две строки из песни Б. Окуджавы адресуют читателя к образу человека-памятника (и только мы плечом к плечу / врастаем в землю тут), ставшему, как оказывается на примерах, актуальным для поэзии конца XX – начала XXI в. и нивелирующему такой атрибут прототипа «Памятник», как великий (отчасти благодаря установке современных авторов на самоуничижение, свойственное в прошлом древнерусским книжникам).
Наглядно представить атрибуты репрезентированного в тексте А.С. Пушкина прототипа «Памятник», которые используются или отвергаются современными авторами, можно с помощью следующей таблицы:
Таблица
|
Атрибуты прототипа «Памятник», репрезентированного в одноименном тексте А.С. Пушкина |
Отражение атрибутов прототипа «Памятник» в поэтических текстах конца XX – начала XXI в. |
|||
|
«Графу Хвостову» М. Амелина |
«Нескончаемые сетования» Н. Байтова |
«Экс-монументум» М. Галиной |
«Exegi monumentum» С. Михайлова |
|
|
нерукотворный |
+ |
— |
— |
— |
|
великий |
— |
— |
— |
— |
|
известный |
+ / – |
— |
+ |
— |
|
гарантирующий бессмертие |
+ |
+ |
+ / – |
— |
-
Н. Байтов также меняет морфолого-синтаксическое выражение семантической роли Агенса: Ты памятник себе воздвигла. / К его подножью привела / меня заросшая тропинка . Родственную трансформацию пропозиции из пушкинского текста встречаем у другого автора – в стихотворении М. Амелина «Графу Хвостову» появляется семантическая роль Бенефициара: Я памятник тебе...* . При этом в данном тексте репрезентированы почти все основные атрибуты исследуемого прототипа: речь идет о памятнике как творческом наследии, об известности (пускай тебя теперь любой прохожий / полюбит так, как я тебя люблю) и бессмертии (но в вечность воспарил, недосягаем, / сев на Пегаса задом наперед; и снова жить безудержно, доколе / жив будет хоть один, хоть полтора) .
Интересно, что близость к прототипу «Памятник», выраженному пушкинским текстом, связана в том числе с употреблением современными авторами устаревшей лексики. Так, в стихотворении М. Амелина 9% архаизмов, а в тексте С. Михайлова, отрицающего все основные атрибуты рассматриваемого прототипа, – 1,6%. Это связано не столько с тем, что в отличие от всех упомянутых авторов, С. Михайлов задействует такую фигуру интертекста, как аллюзия ** , сколько с прагматикой. Например,
М. Амелина Т. Бек назвала «архаистом-новатором», подчеркивая его внимание к диахроническому срезу поэтического дискурса. С. Михайлов же использует прототип «Памятник» как повод для поэтического высказывания: Я памятник. Я сам себе гранит. / Коль скоро время растирает камни / В песок, меня оно не сохранит.
Стоит заметить также, что в трех исследуемых текстах из четырех встречается лексема трава или ее производные: Он ниже сорных трав (М. Галина), Я всегда мечтал / Быть ниже трав и тише вод безмолвных, / Точнее – ими быть (С. Михайлов), К его подножью привела / меня заросшая тропинка. / Уж осень. Зябко на ветру / дрожит засохшая травинка (Н. Байтов). Импульсом к использованию этого слова современными поэтами, вероятно, стала пушкинская строка К нему не зарастет народная тропа . Здесь снова выводится на первый план денотативное значение слова, при этом нельзя сказать, что оно полностью затмевает коннотативное, поскольку авторы апеллируют не только к пушкинскому тексту, но и к фразеологическим единицам тише воды, ниже травы, быльем поросло и др.
Таким образом, в русской поэзии конца XX – начала XXI в. прототип «Памятник», репрезентированный пушкинским текстом, в результате обращения авторов к различным фигурам интертекста претерпевает следующие изменения (другими словами, порождает свои варианты). Во-первых, упраздняется атрибут нерукотворный за счет актуализации прямого значения ключевой лексемы или отождествления человека и памятника. Во-вторых, самоуничижительные формулы современных поэтов ( Я – памятник себе. Другого мне не светит (М. Галина); Я весь умру. Сгорят мои слова / И в памяти чужой, и на бумаге (С. Михайлов)) приводят к полному изъятию из прототипа атрибута великий и частичному – атрибута известный . Подобные прототипические эффекты в русском поэтическом дискурсе конца XX – начала XXI в. связаны в первую очередь с феноменом интертекста, который в данный период получил широкое распространение. Все механизмы взаимодействия производного и производящего текстов в современной поэзии еще только предстоит изучить.
Список литературы Фигуры интертекста с точки зрения теории прототипов (на материале прототипа «памятник» в русской поэзии конца XX - начала XXI в.)
- Бондарко А.В. Лингвистика текста в системе функциональной грамматики//Текст. Структура и семантика. Т. 1. М., 2001. С. 4-13.
- Боярская Е.Л. Категоризация как базовая когнитивная процедура//Вестн. Балт. фед. ун-та им. И. Канта. 2011. № 2. С. 18-28.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. С. 201-231.
- Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Рус. яз., 2000.
- Максим Альбертович Амелин//Энциклопедический словарь «Новая Россия: мир литературы». URL: http://magazines.russ.ru/authors/a/amelin.
- Москвин В. П. Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили. 2-е изд. М.: Либроком, 2013.
- Мусорина Л.А. Расхождения с оригиналом в переводах ХХХ оды Горация, выполненных с академической целью. Новосибирск, 2001. С. 15-20. Источники
- Амелин М. Ожившая статуя//Журнальный зал. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1997/11/amel.html
- Байтов Н. Нескончаемые сетования//Николай Байтов: сайт. URL: http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/BYTOV/neskonchaemye.htm.
- Галина М. Экс-монументум//Арион. 2000. № 1. URL: http://www.arion.ru/mcontent.php?year=2000&number=20&idx=208.
- Михайлов С. Exegi monumentum//Новый мир. 2012. № 9. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2012_9/Content/Publication6_680/Default.aspx.