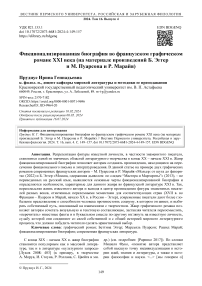Фикционализированная биография во французском графическом романе XXI века (на материале произведений Б. Эггер и М. Пуарсона и Р. Марайя)
Автор: Прудиус И.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Репрезентация фигуры известной личности, в частности знаменитого писателя, становится одной из значимых областей литературного творчества в конце XX - начале XXI в. Жанр фикционализированной биографии позволяет авторам создавать произведения, находящиеся на пересечении фикционального письма и литературоведения. В данной статье на примере двух графических романов современных французских авторов - М. Пуарсона и Р. Марайя «Мольер: от шута до фаворита» (2022) и Б. Эггер «Москва, одержимая дьяволом: по следам “Мастера и Маргариты”» (2013), - не переведенных на русский язык, выявляются основные черты фикционализированной биографии и определяются особенности, характерные для данного жанра во французской литературе XXI в. Так, переосмысляя жизнь известного автора и выводя в центр произведения фигуры знаменитых писателей разных веков, отмеченных переломными моментами для соответствующих стран (XVII в. во Франции - Пуарсон и Марай, начало XX в. в России - Эггер), современные писатели дают более глобальное представление о способности человека противостоять социуму, в котором он живет, и выбирать собственный путь, основанный на взаимосвязи с творчеством. Жанр графического романа позволяет авторам сочетать визуальную и текстовую составляющие, заставляя читателя переосмыслить, «перечитать» известные факты и в буквальном смысле по-другому взглянуть на известную личность, судьбу которой они соединяют со своей собственной и с общей историей мирового литературного процесса, что должно побудить читателя сделать нравственный выбор.
Графический роман, беттина эггер, марсьяль пуарсон, рашид марай, фикционализированная биография, современная французская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/147247227
IDR: 147247227 | УДК: 821.133.1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-4-149-157
Текст научной статьи Фикционализированная биография во французском графическом романе XXI века (на материале произведений Б. Эггер и М. Пуарсона и Р. Марайя)
С конца XIX – начала XX в. жанр биографии становится популярным как в массовой литературе, так и в литературе «культурного запроса» [Луков 2008: 403] (к примеру, в творчестве А. Моруа, И. Стоуна, Р. Роллана, С. Цвейга и мн.
др.) (см. подробнее: [Раренко 2017]). По словам Мишеля Фуко, «понятие автора представляет собой высшую точку индивидуализации в истории идей, знания и литературы, а также в истории философии и науки. <...> [мы говорим о]
первичном, прочном и фундаментальном единстве, которое представляет собой единство автора и произведения»1 [Foucault 1969: 74]. Обращение к фигуре известного автора отражает общий интерес писателей «к психологии и судьбе выдающейся личности, ее роли в идеологической и культурной картине мира в эпоху глобальных перемен, социальных и политических потрясений» [Костылева 2020: 39]. Тенденция к написанию фикционализированных биографий, где соединяются черты биографии и фикцио-нального произведения [Новикова 2018], характерна для литературы второй половины XX -начала XXI в. В работе Анн-Мари Монлюсон и Агаты Саля приводится конкретный год рождения фикционализированных биографий - 1984 г. [Monluçon, Salha 2007: 12]. Это год выхода романа французского писателя Пьера Мишона «Мизерные жизни» (Pierre Michon “Vies minuscules”, 1984), где автор не только создает биографии обычных людей - людей «крошечных», «мизерных», незаметных, - но и переплетает их судьбы с историями известных личностей, таких как Ван Гог, Рембо, Бальзак, Фолкнер и др. Впоследствии многие из этих знаменитых личностей станут героями других фикционализированных биографий Мишона (например, Артюр Рембо в романе «Рембо сын» (“Rimbaud le fils”, 1991)). В одном из интервью Мишон, говоря о писателях, чьи биографии он представил, сказал, что прежде всего он сосредоточился на их недостатках, для того чтобы его «известные» герои были как можно более приближены к современному читателю - человеку конца XX в. [Viart 2009]. Так, во французском литературоведении 1984 год принято считать точкой отсчета для развития обозначенного жанра. Отметим, что в отечественной литературоведческой традиции ранее чаще всего использовались термины «романизированная биография» или «вымышленная биография», однако нам представляется уместным использование термина «фикци-онализированная биография», поскольку мы говорим о французской литературной традиции, где это определение считается устоявшимся.
В нашей статье мы обратимся к жанру графического романа - одного из наиболее популярных литературных жанров XXI в. [Меркулова, Прудиус 2023: 3380], где также представлено большое количество фикционализированных био Графий (издатели книг часто именно таким образом, графически, акцентируют внимание читателя на соединении текстового и визуального компонентов в исследуемом нами жанре). Материалом исследования являются два биографических графических романа современных французских писателей, посвященных жизни Мольера и Михаила Булгакова, - графические романы
Марсьяля Пуарсона и Рашида Марайя «Мольер: от шута до фаворита» (Martial Poirson et Rachid Marai “Moliere: du saltimbanque au favori », 2022) и Беттины Эггер «Москва, одержимая дьяволом: по следам “Мастера и Маргариты”» (Bettina Egger “Moscou endiable, sur les traces du “Maitre et Marguerite”, 2013).
Фикционализированная биография как способ репрезентации фигуры известного писателя
Мы попытаемся проанализировать работы исследователей и выделить характерные черты фикционализированной биографии, которые находим в изучаемых нами графических романах.
Французский литературный критик Доминик Виар предложил определение «воображаемых биографий» [Viart 2001], которые представляют собой сочетание реальной истории одного человека с вымыслом другого - автора, создающего биографию. Исследователь Дамьен Фортен так дополняет мысль Виара: «Жанр “фикционализи-рованной биографии”, благодаря своей формальной и тематической разнородности, вдыхает новую жизнь в длинную и богатую традицию, простирающуюся от “Параллельных жизней” Плутарха до “Воображаемых жизней” Марселя Швоба» [Fortin 2011]. В свою очередь Виар определяет фикционализированные биографии как «попытки реконструировать жизнь» [Viart 2001], как тексты, которые «исходят скорее из воспоминаний, чем из реальной реконструкции, оставляют место для авторских повествовательных мечтаний , демонстрируют неопределенность и гипотезы, дают волю вымыслу и возможным комментариям» [Viart 2008: 103] со стороны автора такой биографии.
Так, жизнь человека, жизнь другого , часто кажется интереснее, чем своя собственная. Через жизнь этого другого автор-исследователь может понять и осмыслить свой путь, что нередко наблюдается в фикционализированных биографиях. Социолог и философ Пьер Бурдьё представил жизнь как последовательность, в которой заключены вечный смысл и непрекращающееся движение: «Жизнь как путь, как дорога, со своими перекрестками ˂...˃ своими подводными камнями, даже ловушками ˂...˃ или как путешествие, то есть путь, который мы проделываем и который мы должны пройти до конца, маршрут, гонка, курс, переход, путешествие, линейное, однонаправленное перемещение (“мобильность”), включающее начало (“начало в жизни”), несколько этапов и конец, в его двойном смысле - как достижение определенного срока или же достижение цели» [Bourdieu 1986: 69].
Представление этих жизней и является задачей современного автора, который должен «от- носиться к жизни как к истории, то есть как к связному повествованию» [Bourdieu 1986: 70]. Таким образом, репрезентация жизни другого – это и есть цель фикционализированной биографии, но особенность такой репрезентации заключается в том, что эти произведения находятся «на пересечении художественной литературы и биографического повествования» [Pluvinet 2012: 42], они «являют собой как бы промежуточные опыты между чисто литературоведческими сочинениями <…> и чисто фикциональным письмом» [Полубояринова, Кулишкина 2020: 135]. Такое пересечение двух компонентов повествования позволяет определить жанр фикционали-зированной биографии как гибридный жанр (см. подробнее: [Lodge 2006]). Филологи отмечают, что существуют различные определения этого жанра: «байопик, жизнеописание, биографоид-ные формы, конвенциональная биография, романизированная биография» [Gefen 2012: 567], а также «биофикшн» [Mongelli 2019: 6], «экзо-фикшн» [Kargl, Le Née 2022; Муравьева 2022].
Представление автора как персонажа кажется тенденцией современной литературы, однако, как утверждают филологи Том Франссен и Тон Хёнселарс, истоки жанра фикционализированной биографии можно найти еще в Античности. Так, примеры «жизни, дополненной вымыслом» [Franssen, Hoenselaars 1999: 11], встречаются в комедиях Аристофана «Лягушки» (Еврипид, Софокл) или «Облака» (Сократ). Кроме того, безусловно, мы находим черты исследуемого жанра и в произведениях более поздних периодов. Приведем лишь несколько примеров: «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари, 1550; труды Вольтера, посвященные Карлу XII и Петру I, работы Вальтера Скотта на историко-литературную тему («Жизнеописание романистов», 1821–1824, «Смерть лорда Байрона», 1824, «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов», 1827). М. Б. Раренко указывает, что и в «Очерках Боза» Чарльза Диккенса присутствует биографическое начало, поскольку английский писатель «дает исчерпывающие характеристики своим героям и составляет их психологические портреты» [Ра-ренко 2019: 19]. Таким образом, выбор фигуры известной личности для ее представления в биографии всегда связан с контекстом эпохи, в которой живет писатель, эту биографию создающий. Однако литературные критики также отмечают, что в XIX в. и начале XX в. авторов-биографов интересовали крупные события, поэтому нередко изображаемые ими известные личности были участниками таких событий и казались неотделимыми от них. На рубеже ХХ и ХХI вв. социальная сторона в повествовании отодвигается на второй план, а в центре оказывается отдельная личность и ее судьба, переосмысленная другим человеком, это одновременно реальная и вымышленная личность. Так, в центре фикционализированной биографии находятся «сложные отношения, которые устанавливаются между реальностью и вымыслом» [Kargl, Le Née 2022]. Исследовательница Шарлин Плювине считает, что авторы фикционализированных биографий не только погружают читателя в жизнь известной личности, как это делают, например, историки, но и «заставляют нас подвергнуть сомнению наличие границ между реальной жизнью и ее воссозданием» [Pluvinet 2012: 45] автором биографии. Нередко случается, что писатель, не слишком популярный и даже осуждаемый в свое время, становится иконой спустя несколько веков (вспомним, например, провокационную фигуру маркиза де Сада и возникший к ней интерес во второй половине XX в.). Кроме того, в фикци-онализированной биографии выбранный автор и его жизнь всегда связаны с его творчеством, то есть с его текстами (что оспаривал в свое время Ролан Барт в эссе «Смерть автора»).
Следовательно, переосмысление фигуры знаменитого автора является одной из главных задач современных писателей, которые воссоздают его портрет, опираясь на его произведения и на факты из биографии, но в итоге «рисуют более индивидуализированный портрет и выводят фигуру, отличную от той, что обычно представлена в литературной традиции» [Geoffrion 2009: 14]. Таким образом, в современном произведении мы видим узнаваемую нами фигуру писателя, но часто, даже если авторы обращаются к личностям из прошлых эпох, в них мы узнаем своих современников. Как правило, современные писатели не идеализируют выбранных авторов, однако обращаются к личностям, являвшимся эталонами своего времени, и их черты, вызывающие восхищение сегодня, они выводят на первый план. В нашем корпусе текстов такими личностями являются Мольер и Михаил Булгаков, которых современные авторы графических романов представляют как сильных личностей, бунтарей в нестабильное время, когда свобода выбора ставилась под сомнение. Визуальная форма искусства – графический роман – также вносит вклад в репрезентацию фигуры автора, предоставляя возможность не только переписать творческий путь писателя, но и, обращаясь к его образу, буквально его визуализировать.
Итак, в образе известного писателя, представленного в фикционализированной биографии, мы парадоксальным образом видим две разные фигуры, описанные создателем этой биографии, поскольку он должен «говорить об историческом авторе ˂...˃, но всегда придает ему черты подразумеваемого им самим автора» [Rabau 2001: 21]. Более того, в нашем случае мы видим и третью фигуру: это создатель (или создатели) графического романа, который часто связывает себя с образом переосмысленного им писателя.
Репрезентация фигуры автора как центрального персонажа во французском графическом романе XXI в.
Как упоминалось выше, в нашем исследовании мы обратимся к графическим романам французских авторов, создавших фикционализи-рованные биографии Мольера (М. Пуарсон и Р. Марай) и Михаила Булгакова (Б. Эггер).
Писатели и литературоведы обращаются к фигуре Жана-Батиста Мольера, одного из символов французской литературы, уже на протяжении четырех столетий. Большинство работ посвящены жизни Мольера и его связи с театром. Структура классических биографий или же исследований, посвященных Мольеру, стандартна: основные факты из жизни писателя, периодизация, основанная на создании наиболее известных пьес, рассказ о последнем периоде жизни и его связи с пьесой «Мнимый больной». Мы рассмотрим фикционализированную биографию Марсьяля Пуарсона и Рашида Марайя «Мольер: от шута до фаворита» (2022) и репрезентацию в ней фигуры Мольера. Так, структура книги Пуарсона и Марайя также линейна: авторы представляют жизнь французского драматурга с детства, рассказывают о периодах написания наиболее значимых пьес и заканчивают моментом его смерти. Однако это линейное повествование переплетается с вымышленными элементами, которые добавляет автор текстовой части М. Пуарсон, и с его собственными рассуждениями о значении Мольера во французской и мировой литературе. Кроме того, Пуарсон на протяжении всего произведения обращается к так называемому «мольеровскому вопросу» (являлся ли Мольер автором всех комедий) и в финале приходит к выводу, что история создания его пьес доказывает подлинность этих текстов.
В своей книге Пуарсон и Марай начинают историю Мольера с детства, когда его дед, Луи Крессе, водил на представления площадного театра, где в этом «парижском брюхе и родился этот шут» (“c’est à cette époque est née ce “saltimbanque” au ventre de Paris”) (Poirson, Maraï 2022: 6). Именно это смешение в одном месте, на одной площади, «торговли, политики и театра» (“où entre commerce, politique et théâtre, tout se mélange”) (ibid.: 6), этот исключительный мир, где сочеталось высокое и низкое, прекрасное и порочное, позволяет в дальнейшем родиться
«высокой комедии» Мольера, где соединяются комическое и трагическое. Пуарсон отмечает, что эти «уличные представления» (“ces spectacles de rue”) (ibid.: 8) (автор текстовой части относит к ним не только площадные спектакли, но и жизнь на улице, рынке, в маленьких магазинчиках), которые Мольер наблюдал с детства, сначала стали «источником удивления Поклена» (“sources d’émerveillement de Poquelin”) (ibid.), а затем вдохновили его на создание собственного театра и на написание пьес для труппы. На улицах и площадях Парижа юный Жан-Батист также видел, как «изворотливые доктора, жадные старики и хвастливые, трусливые стражи порядка могут быть моментально разоблачены» (“démasquer infailliblement les docteurs pédants, les vieillards avares et les capitaines aussi vantards que poltrons”) (ibid.: 9). Поэтому Мольера привлекал не жанр трагедии, где порочная сущность толкала людей на преступления, а жанр комедии, где задачей его стало высмеивание этих пороков.
Текст Пуарсона дополняется рисунками Ма-райя: художник изображает простых парижан на рыночной площади, у сцены театра под открытым небом, торгующих товарами или откровенно жульничающих, но в любом случае живых, находящихся в движении, в отличие от застывших, статичных аристократов, расположенных в отдалении. Стоит также обратить внимание на стиль рисунка Марайя в этой книге: графическая часть нарисована в технике эскиза, часто это размытые, схематичные изображения людей и окружающего их пространства. Мы можем сделать вывод, что задача художника – визуально представить обобщенный портрет эпохи и человека времени Мольера, все они – части парижского общества XVII в.
Таким образом, следуя за фактами из биографии Мольера, авторы графического романа представляют путь драматурга и режиссера от первых неудач, включая тюремное заключение, до расцвета при дворе короля Людовика XIV: такой нарратив характерен для многих классических биографий Мольера. Однако, как мы отмечали, главной задачей Пуарсона и Марайя становится утверждение ими авторства корпуса произведений драматурга. Для этого они добавляют в графический роман две линии: проспективный элемент, представляющий французскую школу XVIII в., где изучают наследие Мольера век спустя и говорят о нем как о знаковом французском авторе, и авторское эссе самого Пуарсона в финале книги, где он заявляет, что останки писателя следовало бы давно перенести в Пантеон, поскольку многие литературоведы, в том числе Марсьяль Пуарсон, доктор филологии в Сорбонне, доказали и обосновали данный факт. Так, мы видим, что фикционализированная биография в жанре графического романа претерпевает изменения: она дополняется не только вымышленным элементом (французская школа XVIII в., не имеющая отношения к биографии Мольера), но и исследовательской составляющей (литературоведческое эссе Пуарсона). Кроме того, мы наблюдаем сокращение объема текстовой части вследствие введения изообразов Марайя, который многие повествовательные фрагменты переводит в рисунок, соответствующий визуальному XXI веку.
Похожую трансформацию фикционализиро-ванной биографии мы наблюдаем и в графическом романе Беттины Эггер «Москва, одержимая дьяволом: по следам “Мастера и Маргариты”» (2013), где, в отличие от книги Пуарсона и Марайя, линейное повествование о жизни Булгакова отсутствует. Эггер обращается к нескольким эпизодам из жизни русского писателя: созданию им своего наиболее знаменитого романа и предсмертному периоду. Писательница ограничивается лишь краткой биографической справкой: она упоминает ключевые, по ее мнению, события в жизни Булгакова (рождение в Киеве, работу врачом, переезд в Москву в связи с решением стать писателем, создание пьесы «Дни Турбиных», работа во МХАТе и Большом театре). Таким образом, по мнению Эггер, написание романа «Мастер и Маргарита» являлось самым значительным трудом Булгакова, и через соединение образов героев романа и реальных людей из его окружения она представляет собственное видение русского писателя.
В книге Эггер, в отличие от Пуарсона и Ма-райя, нет описания детства Михаила Булгакова и его влияния на писателя. Автора графического романа интересует другая «колыбель» – Москва 1920–1930-х гг. – время, ставшее основной для создания главного романа Булгакова. Но есть и сходство: одна из первых сцен жизни русского писателя в Москве 1930-х гг., представленная в книге Беттины Эггер, – тоже театральная сцена. Это возобновленный показ «Дней Турбиных» в московском МХАТе, когда занавес поднимали 16 раз: зрители приглашали автора на сцену, но он так и не вышел. Эггер, как автор не только текстовой, но и графической части, не пишет, что Сталин был среди зрителей, но рисует образ генсека как одного из восторженных зрителей (как известно, Сталин любил эту пьесу (см. подробнее: [Чудакова 2016])). И вот эггеровский Булгаков, прячась за занавесом вместе со своим другом Сергеем Ермолинским, с грустью вспоминает, что раньше он «мечтал об этом дне с детства» (“je rêvais de ce jour depuis mon enfance”) (Egger 2013: 10), о дне, когда его признàют как писателя. Но после того как мечта осуществилась, она перестает иметь для писателя какое-либо значение. Эггер цитирует одну из легендарных фраз Булгакова на эту тему: “Les français disent qu’on vous offre un pantalon... lorsque vous n’avez plus de fesses” (ibid.: 11)2.
В данном фрагменте Булгаков представлен разочарованным как в своих мечтах, так и в столичных жителях, то есть в своей публике, которая аплодировала ему в тот день, однако ранее смирилась с запретом его пьесы. Эту публику, быстро забывающую своих вчерашних идолов, он изобразит в романе «Мастер и Маргарита». В следующем эпизоде Эггер рисует Булгакова поднимающим голову и обращающимся к небу: «Пусть дьявол заберет их всех!» (“Que le Diable les emporte tous!”) (ibid.12). А возле ног писателя появляются маленькие кошачьи следы: так Эггер вводит образ кота Бегемота, который становится проводником по миру «Мастера и Маргариты» как автора этого романа, так и читателя произведения Беттины Эггер. «Мяу! Я передам» (“Miaou ! Je lui transmettrai”) (ibid. 13), – отвечает ему Бегемот, и их силуэты удаляются от читателя по пустынной улице. Заметим, что Булгакову отвечает посланник Воланда, а не бога. В мире, где жил писатель, по мнению Эггер, не было место раю (именно по этой причине она исключает из своего графического романа образы Иешуа и Понтия Пилата), это было инфернальное пространство, которое отняло у Булгакова жизнь, но дало ему возможность создать одно из важных произведений русской литературы XX в.
На следующей странице мы видим, что над Малым театром сгущается тьма, а Булгаков уже вместе с котом Бегемотом удаляется и от театра, он больше не боится своего проводника из свиты сатаны. Мы понимаем, что образ писателя, созданный Эггер, представляет автора «Мастера и Маргариты», привязанного к Бегемоту, то есть к миру своей книги, где чудесные вещи всё еще могут исправить зло, в отличие мира Москвы, где зло в то время было неискоренимым (Эггер указывает на репрессии). Писательница отмечает, что до 1960-х гг. Булгаков оставался запрещенным, забытым писателем, и только после публикации «Мастера и Маргариты» в 1966 г. «автор, наконец-то вышедший из мира теней, наконец-то начал длительную посмертную карьеру» (“l’auteur, enfin sorti de l’ombre, allait entamer une longue carrière posthume”) (ibid.). Так, в данном эпизоде и во всех последующих, репрезентующих личность Булгакова, Эггер подчеркивает его связь с образом его Москвы, Москвы 1920– 1930-х гг., о которой пишет в своих мемуарах и его третья жена Елена Сергеевна (см. подробнее: [Булгакова 1990]). Факты из жизни русского писателя, его цитаты, образы в его книгах, ставшие вечными, переплетаются с судьбой их автора, и эта история приобретает черты личного мифа.
Таким образом, мы увидели, что на рубеже XX–XXI вв. фикционализированная биография стала распространенным способом репрезентации образа известной личности, в частности – знаменитого писателя, которого современные авторы часто представляют как сложную и амбивалентную личность. Такая репрезентация близка господствующей сегодня точке зрения: человек не может быть ни положительным, ни отрицательным, напротив, он многосторонен, он может творить добро и зло, но чем сложнее его фигура, тем интереснее его образ для других. Более того, важно, что авторы XXI в., описывая жизнь известного человека, не только подчеркивают его значение для современности, но и связывают его с сегодняшним днем, ведь в их произведениях прошлое часто неразрывно связано с настоящим, в котором мы живем. Два произведения современных авторов графических романов, которые мы рассмотрели в этом исследовании, представляют собой две фик-ционализированные биографии двух известных писателей: Жан-Батиста Мольера и Михаила Булгакова. Мы увидели, что визуальная составляющая выбранного жанра позволяет дополнить текстовую часть визуалом, расширяющим границы интерпретации произведения. Несомненным сходством при репрезентации указанных писателей является представление их как неидеализированных персонажей, однако имеющих больше положительных, чем отрицательных характеристик. Кроме того, их внутренние особенности, в частности сопротивление устоявшимся нормам в обществе, проявляются во взаимодействии с сильными личностями своего времени: у Мольера – с Людовиком XIV, у Булгакова – со Сталиным. Выразить свой протест они могут посредством творчества, продолжая создавать произведениях, которые переживут своих авторов. По мнению авторов XXI в., именно эта характеристика делает их образы и творческое наследие неподвластными времени.
Список литературы Фикционализированная биография во французском графическом романе XXI века (на материале произведений Б. Эггер и М. Пуарсона и Р. Марайя)
- Бояджиева Л. Ю. Москва булгаковская. М.: АСТ, 2017. 288 с.
- Булгакова Е. С. Дневник Елены Булгаковой. 1990. URL: https://www.masterandmargarita.eu/esto re/pdf/ebru200_elenasergeevna.pdf (дата обращения: 05.01.2024).
- Костылева И. А. Типология жанра романа-биографии в русской литературе ХХ-ХХ1 веков (на материале творчества Б. К. Зайцева и А. Н. Варламова) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13, вып. 5. С. 38-43. https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.5.7
- Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М.: Академия, 2008. 512 с.
- Меркулова М. Г., Прудиус И. Г. Жанр графического романа: к постановке проблемы (на материале современных франко- и англоязычных текстов) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. Т. 16, вып. 10. С. 3379-3385. https://doi.org/10.30853/phil20230522
- Муравьева Л. Е. Экзофикшн и энактивистские нарративы в современной французской литературе // Studia Litterarum. 2022. Т. 7, № 3. С. 30-51. https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-3-30-51
- Новикова С. Ю. Автобиографическая проза Томаса Бернхарда: проблематика и поэтика: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2018. 211 с.
- Полубояринова Л. Н., Кулишкина О. Н.Две «Мариенбадские элегии»: И. В. Гёте и В. Г. Зебал // Studia Litterarum. 2020. Т. 5, № 3. С. 128-143. doi 10.22455/2500-4247-2020-5-3-128-143
- Раренко М. Б. Биография: эволюция и гибридизация жанра. М.: ИНИОН РАН, 2017. 68 с.
- Раренко М. Б. Жанр биографии как социальный феномен // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 2019. № 3. С. 11-23. doi 10.31249/rsoc/2019.03.02
- Чудакова М. О. Сталин и Булгаков: тема власти в «Мастере и Маргарите». 2016. URL: https://arzamas.academy/courses/39/3 (дата обращения: 02.01.2024).
- Bourdieu P. L'illusion biographique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1986. Vol. 62-63. P.69-72.
- Fortin D. Les "fictions biographiques" contemporaines, un nouveau "sacre de l'écrivain"?. 2011. URL: https://www.fabula.org/acta/docu-ment6259.php (дата обращения: 13.01. 2024).
- Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? // Bulletin de la Société française de philosophie, 63e année. 1969. № 3. P. 73-104.
- Franssen P., Hoenselaars T. Introduction. The Author as Character: Defining a Genre // The Author as Character. Representing Historical Writers in Western Literature. Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 1999. P. 11-35.
- Gefen A. Au pluriel du singulier: la fiction biographique // Critique. Éditions de Minuit. 2012. № 781-782. P.565-575.
- Geoffrion K. Le poète maudit dans la mire des contemporains: la figure de Baudelaire, Verlaine et Rimbaud dans les fictions biographiques de D. Blonde, G. Goffette et P. Michon. Montréal: Université du Québec à Montréal, 2009. 138 p.
- Kargl E., Le Née A. Fictions biographiques dans la littérature, les romans graphiques et le cinéma des années 1990 à aujourd'hui // Germanica. 2022. № 70. URL: https://journals.openedition.org/germa-nica/16442 (дата обращения: 05.01. 2024).
- Lodge D. The Year of Henry James. The Story of a Novel. London: Harvill Secker, 2006. 332 p.
- Mongelli M. Narrer une vie, dire la vérité: la biofiction contemporaine. Paris: Université Sorbonne Paris Cité, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2019. 450 p.
- Monluçon A.-M., Salha A. Introduction // Fictions biographiques. XIX-XXIe siècles. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2007. P. 7-32.
- Pluvinet Ch. Fictions en quête d'auteur. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012. 314 p.
- Rabau S. Présentation // Fiction d'auteur? Le discours biographique sur l'auteur de l'antiquité à nos jours. Paris: Champion, 2001. P. 17-21.
- Viart D. Fictions biographiques // La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations. Paris: Bordas, 2008. P. 99-124.
- Viart D. Héritage et filiation. Entretien avec Pierre Michon // Cairn.info. 2009. № 48 (2009/2). URL : https ://www .cairn. info/revue -roman2050-2009-2-page-13.htm (дата обращения: 07.05. 2024).
- Viart D. L'imagination biographique dans la littérature française des années 1980-90. 2001. URL: https://remue.net/cont/Viart_ImagBio.pdf (дата обращения: 07.01. 2024).