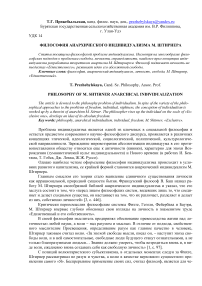Философия анархического индивидуализма М. Штирнера
Автор: Прежебыльская Т.Г.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 5 (44), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философской проблеме индивидуализма. Несмотря на многообразие философских подходов к проблемам свободы, личности, справедливости, наиболее ярко концепция индивидуализма разработана теоретиком анархизма М. Штирнером. Философ поднимает личность на пьедестал «Единственного», развивает идею его абсолютной свободы.
Философия, анархический индивидуализм, личность, свобода, м. штирнер, "единственный"
Короткий адрес: https://sciup.org/142142754
IDR: 142142754 | УДК: 14
Текст научной статьи Философия анархического индивидуализма М. Штирнера
Проблема индивидуализма является одной из ключевых в социальной философии и остается предметом современного научно-философского дискурса, проявляется в различных концепциях этической, идеологической, социологической, политической, культурологической направленности. Зарождение мировоззрения абсолютизации индивидуума в его противопоставлении обществу относится еще к античности (киники), характерно для эпохи Возрождения (гуманистический культ индивидуальности) и Нового времени (в работах И. Бентама, Т. Гобса, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо).
Однако наиболее четкое оформление философии индивидуализма происходит в условиях развитого капитализма, ее крайней формой становится анархический индивидуализм М. Штирнера.
Главным смыслом его теории стало выявление единичного существования личности как иррациональной, природной сущности бытия. Французский философ В. Баш назвал работу М. Штирнера своеобразной библией анархического индивидуализма и указал, что его заслуга состоит в том, что «перед лицом философских систем, видевших лишь то, что соединяет и делает сходными существа, он настаивает на том, что их различает, разделяет и делает из них, собственно личностей» [3, с. 446].
Критически переосмыслив философские системы Фихте, Гегеля, Фейербаха и Бауэра, М. Штирнер впервые глубоко обосновал свои взгляды на личность в знаменитом труде «Единственный и его собственность».
В своей философии мыслитель предпринял обоснование превосходства жизни над логичностью любой науки, а воли - над разумом и мыслью. В отличие от подхода, свойственного мыслителям Просвещения, определявшим разум как главное качество в человеке, Штирнер таковым считал волю. «За эпохой свободы мысли, писал он, - наступит эпоха свободы воли, и в ней самостоятельные, свободные люди будущего станут сознательными, а не только благоразумными людьми… Знание должно умереть, чтобы возродиться вновь и, в виде воли, ежедневно вновь создавать себя как свободную личность» [1, с. 97].
С позиций волюнтаристского субъективизма, в отдельных моментах следуя за Фихте, Штирнер рассматривал не разум и чувства, а волю в качестве верховного сущностного проявления самого «Я». Беспрерывное применение своих сил, считал философ, является для че- ловека естественным состоянием, как и проявление его способностей в борьбе с окружающим миром.
Анархический дух штирнеровской философии проявился в тотальном отрицании не только иерархично устроенного мироздания и общества, но и морали, права и добродетели, как злостного ограничителя личностной свободы. Релятивистское понимание жизни не оставляло места законности, вечности, абсолютности и определенности для каких-либо устройств, знаков и человеческих конструкций.
Известно, что критика гегелевского отчуждения личности и Абсолютного духа была широко распространена среди младогегельянцев. Но Штирнер пошел дальше, провозгласив личность (в своей единичности и неповторимости) в качестве единственной и подлинной реальности. Путем, заимствованным у Фейербаха, - отрицания христианского Бога, теоретик анархизма попытался восстановить понятие собственного «я», для которого всякое «святое», т.е. внушенное и чуждое человеку, превращается в оковы. К этим последним он относил давящее воздействие на человека общественной нравственности, кумиров и авторитетов, высоких добродетелей или низких пороков.
Человек, считал он, суверенен и свободен во всех своих действиях, желаниях и поступках. Он не обязан слепо служить чему-то или кому-то, ибо при этом он неминуемо отрекается от себя. То, что является для личности «священным», отстраненным и недостижимым, уже не есть ее «собственность». Философ был возмущен тем, что авторитарное общественное воспитание стремится навязать личности отчужденные чувства рабской покорности, смирения и трепета перед идолами, порождает косность и несамостоятельность мышления.
В итоге Штирнер стремился обосновать идею о возможности становления свободной личности, преодоления ее отчуждения в борьбе с искусственно созданными человеком «призраками» - государством, собственностью, религией, моралью, правом. Результатом такой внутренней и внешней борьбы должно стать осознание личностью своих интересов, достоинства, потребностей и ценностей.
Штирнеровское понимание свободы не признавало половинчатости, попыток компромисса с государством. Свобода требует освобождения личности от всякого внешнего и внутреннего гнета.
Средством отчуждения личности, по мнению Штирнера, является давление на нее общественных общепринятых ценностей, морали посредством религии, воспитания, образования, науки. Государство - это чуждая личности машина угнетения, которая посредством закона, чиновничества и полиции угрожает свободе личности. Кроме того, государство, в котором рождается личность, воспитывает ее сообразно своим целям, создавая из нее пригодного члена общества, и тем самым уничтожает ее самостоятельность. Своеобразие живого восприятия жизни затмевается у человека по-государственному правильным, «истинным» образом мыслей.
Таким образом, собственные ценности, мысли и чувства не рождаются и не вырабатываются самим человеком, а заменяются внушением. Ужасающая инертность привычки, конформизм и банальность мышления влекут за собой потерю личностью своей «собственности», достоинства. Критического сарказма удостоил Штирнер и незыблемость государственного права, отметив его преходящий, исторический и насильственный характер.
Весьма своеобразно Штирнер подходил к понятию духовности человека. Для философа дух существует только тогда, когда есть мысли, но при этом личности необходимо, чтобы дух не владел и не господствовал над нею. Дело освобождения личности должно идти посредством преодоления всех форм отчуждения. В статье «Ложный принцип нашего воспитания или гуманизм и реализм» Штирнер критиковал цель современного образования, направленную на воспитание смиренных, несамостоятельных, но нужных государству послушных граждан, тогда как должна быть одна единственная цель - свободная личность. Воспитание должно не внушать, а возбуждать в человеке чувства, порождаться им самим, тогда они становятся его эгоистической собственностью. Этот сложный процесс освобождения является одним из условий уничтожения такого вида иерархии, как господства духа.
Критически анализируя государство и государственное право как формы проявления самоотчуждения личности, Штирнер обращал внимание на исторический характер их возникновения и насильственную сущность. Поэтому уничтожение государства, покоящегося на «рабстве труда», и духовное самоосвобождение - условия человеческой борьбы за индивидуальность.
Таким образом, вся история человечества, по Штирнеру, представляет процесс освобождения личности от угнетающих его факторов. Причем личность в процессе освобождения проходит три основных этапа: 1) древний (детский) - подчинение человека природе; 2) христианский (юношества) - подчинение человека Духу; 3) эгоистический (зрелого мужа) - освобождение человека, обретение личностью собственной неповторимости.
Человек приобретает себя, преодолевая свое священное, добровольное рабство перед природой, Духом, общественной нравственностью. Уничтожив иерархию во всех ее видах, человек освобождается от всего наносного, чуждого ему и остается со своей обнаженной сущностью. Освободившись «от», личность сохраняет и развивает свою уникальность, неповторимость, своеобразие, оставаясь собственником. Самопознание, саморазвитие и осознание враждебности внутреннего рабства, необходимости бунта за свою свободу, по Штирнеру, - реальные шаги процесса самоосвобождения. Правда, на этом пути главным все же становится не самопознание, выявляющее и открывающее заложенное в личности, а ее деятельность по самоосуществлению, по созиданию самого себя каждую минуту. Без внутреннего самосознания свободы, любые ее внешние атрибуты бессмысленны.
Для анархического философа «Я» - это прежде всего воля и чувства, исходящие из индивидуальной сущности конкретной личности, которые невозможно уничтожить ни государственным воспитанием, ни образованием, ни принуждением. «Я» не подчиняется каким-либо императивам, сохраняет и развивает исключительно свою индивидуальность. Личность цельна, и ее немецкий мыслитель называл словом «Единственный», вкладывая в это понятие всю уникальную сущность.
Самыми основными критериями философского понимания личности являются субъективное самоощущение, осознание, самопроявление и самоудовлетворение отдельного индивида.
Критикуя Фейербаха, Штирнер утверждал, что нет человека абстрактного как такового, существует в реальности и живет только конкретная индивидуальность «Я», представляющая собой целый микрокосмос. Сущность «Единственного» невыразима никакими понятиями и словами, более того, она никогда полностью не исчерпывает всей многогранности личности. Следовательно, можно разрушить словесно-идейное царство за ненадобностью, противопоставив ему свое созидающее «творческое ничто». Последнее не детерминировано ничем - ни миром, ни людьми; это тайна личности, не постигаемая до конца ни самой личностью, ни другими людьми. Но это «творческое ничто», «из которого я сам как творец все создал» [3, с. 9]. Вместе с тем Штирнер замечал, что творчество не абсолютно и личность не может перепрыгнуть через свою природу.
«Общество, - отмечал он, - неминуемо исчезнет из истории благодаря углублению, расширению и усилению межличностных связей, результатом которых станет появление ассоциаций, «союзов эгоистов», образованных добровольными соглашениями ее членов. При этом за суеверенной личностью сохраняется право выйти из соглашения, изменить свое отношение, слово». В отличие от Фихте, который рассматривал абсолютное «Я», Штирнер говорил о преходящем «Я», имеющем прежде всего право быть тем, чем он в силах стать. Однако при этом штирнеровское «Я», всегда оставалось «единственным», так как, утверждал философ, «мои потребности и мои деяния - единственны, - короче, все во мне единственно» [3, с. 349].
Немецкий философ решительно выступал против измерения ценности человека в зависимости от выполнения им своего «священного» призвания: семья, отечество, наука. У человека нет предназначения, он живет в «наслаждении собой», в самопроявлении своей силы, полноты своей единичности, не подпадая под власть чувственности и духа.
Более того, всякое назначение ограничивает человечность, поэтому сделать себя свободным - означает для человека познать свою сущность.
Философия Штирнера возводила в абсолют особенность «Единственного», что исключало значимость общечеловеческого, а следовательно, делало очень слабой межличностную связь и, в конечном счете, обрекало личность на одиночество. Абстрактное понятие «человек» должно рассматриваться как одно из свойств, качеств личности, которая есть уже человек и не нуждается в «том, чтобы еще сделать из себя человека, ибо он уже во мне, как все мои качества» [3, с. 119].
Кредо личности в философии Штирнера звучало однозначно - быть всем, чем сможет быть, и иметь все, что может иметь. Личность совершенна, ибо не обязана быть или становиться чем-то большим, чем она есть. Она совершенна и не нуждается в каких бы то ни было надличностных идеалах. Личность следует принимать со всем, что она имеет. Таким образом, требование общества - быть человеком в идеальном, возвышенном смысле, становится для личности потусторонним, недостижимым, ненужным требованием «сверху». Осознание личностью своего своеобразия непременно приводило к осознанию своеобразия других личностей, нежелание личности служения чему- и кому-либо, не отрицало такого же существования такого же нежелания у других.
Интересно, что у Штирнера представление о необходимости свободы для личности тесно связывалось с понятием собственности, ибо свобода никчемна и бессмысленна, если ничего не дает. «Единственному» этот мир нужен только для того, чтобы пользоваться им.
И всякое ущемление и ограничение его воли со стороны государства есть деспотическое насилие, естественным образом порождающее преступления в обществе.
По мнению немецкого философа, только в свободных, динамичных, материально обеспеченных «союзах эгоистов» возможно проявление и раскрытие собственной индивидуальности, наслаждение собой и миром. У эгоистов нет обязанностей по отношению к союзу, а у союза нет никаких прав относительно своих членов. В содружестве свободных, сознательных, индивидуальностей возможно честное сближение, искренние отношения и чувства. Принцип свободы в новых ассоциациях не является принципом обособления «единственных», а, напротив, становится основой более совершенного объединения и общения нового уровня.
В обществе личность, размышлял Штирнер, обязана служить всем, выполнять «социальный долг». Долг стоит над личностью, существует без нее, но пользуется ею. Тогда как «союзом же ты пользуешься, и если ты, не зная ни долга, ни верности перед ним, увидишь, что не сможешь извлечь из него дальнейшей пользы, то ты выйдешь из него» [3, с. 301]. Единственные в объединении союза удовлетворяют собственные потребности и интересы. Диалектика взаимозависимости общества и союза такова, что с гибелью общества возникает союз, а общество возрождается с кристаллизацией союза. В обществе личности находятся в объективной, вынужденной связи; тогда как в союзе они соединяются добровольно и осознанно. Бездушное и незыблемое в своей косности общество подавляет личность, нивелирует ее особенность, превращает в усредненную посредственность; «союз эгоистов» же динамичный и живой (беспрерывным потоком новых своих членов) служит личности и делает ее свободной. В исторической перспективе заинтересованное и прочное межличностное общение грозит полному разложению общества, тогда как общительность «эгоистов» непреходяща.
Анархический дух федеративных начал общественной организации, предусматривающий единство при сохранении суверенитета своих единиц, гораздо предпочтительней деспотичного централизма, означающего лишь рабское единство. Дух либертарности предпочтительней духа иерархии и отчуждения.
В отличие от мыслителей XIX в., выражавших глубокую веру в силу разума человека, науки, социальных реформ, революций, идеальных моделей общества, Штирнер не дал законченных идеалов будущего, ведь свобода непредсказуема. Более того, «союз эгоистов» рассматривался в качестве переходной и временной формы общественной ассоциации, ибо совершенно невозможно предугадать его жизненную перспективу точно так же, как ответить на вопрос: что будет делать ребенок, достигший совершеннолетия?
Большое внимание уделялось философом рассмотрению важнейшего для анархизма вопроса о месте личности в обществе.
В своих рассуждениях о современных социальных моделях существования личности Штирнер выражал гораздо большую симпатию социалистическому варианту, нежели урезанному, компромиссному варианту буржуазного либерализма. Если политические либералы своим результатом видели юридическое равноправие, социалисты - материальное обеспечение всех членов общества, то для Штирнера такие результаты являлись лишь изначальными условиями для свободы личности. При этом приоритеты философа были неизменны: суверенность, единственность, свобода и творчество личности. М. Штирнер бесстрашно владеет критическим орудием, ниспровергая всякие авторитеты: буржуазное государство и его институты, религию и буржуазную мораль, воспитание и идеологию, частную собственность и государственный социализм «нищеты». Он горячо призывал личность к осознанию самой себя, к борьбе за возвращение к себе и своим истинным интересам, к созданию достойного ее общества, «союза эгоистов».
Штирнер впервые в истории философии остро поднял вопрос о доминанте духовного освобождения личности. Коренные изменения в политическом и социальном плане не имеют смысла, если личность не становится свободной. Революция недостаточна, если она выполняет только функцию смены декораций, личностный же бунт, восстание и последовавшая за ним революция призваны сломать целостную систему отчуждения. Внутренняя свобода не может существовать без внешней свободы, поэтому социальная борьба необходима, свободу следует завоевывать силой.
В вечном споре о правах, даруемых Богом, или государством, или социальными институтами, правда всегда оказывается на стороне личности, добывающей свои права собственной силой и волей. Все, дарованное сверху, также легко может быть отобрано; личности не нужны подарки, она стремится иметь свою собственность. Свобода неделима, кусок свободы - лишь часть свободы, ограниченная рамками свобода всегда предполагает ожидание нового господства.
Мыслитель был далек от отрицания связи личности с обществом, ведь личность «вырабатывается обществом», но он против ограниченного понимания того, чтобы ее принимали за простую, механическую частицу, «ибо она больше, чем только часть, единичность» [3, с. 253]. Изменение общества невозможно без изменения его составляющих, более того, усилиями личности творится общественная жизнь и история.
Такое понимание роли личности было новым словом для своего времени среди распространенных представлений о гарантированном обеспечении свободы личности - общей гарантией свободы народа или человечества. Основательное разрушение общества, государства и возникновение «союзов эгоистов» являются естественным результатом исторического процесса, включающим последовательную смену гибели созиданием, рабства - освобождением, нищеты - благоденствием.
Антропоцентрический пафос Штирнера принимал личность как субъект истории в абсолютном совершенстве и единственности. Он поднимал ее до небес творца, творящего себя и мир в освобождении всех личностей.
Для М. Штирнера личность была ценна прежде всего своей реальностью, включающей все достоинства и недостатки, творящей и изменяющей себя и мир, являющейся смыслом и целью бытия, а не только средством и орудием функционирования общества. М. Штирнер, с одной стороны, первый провозгласил и противопоставил истинность осознавшей себя, деятельной и единственной личности - коллективной истине общества; с другой стороны, он высказал глубокую мысль о зависимости свободы народа от свободы индивидуальной.
Анархизм, который не рассматривал индивидуалистическое начало, был обречен на смерть, ибо неминуемо превращался в государственный социализм либо становился демократическим либерализмом.
Теоретический интерес к анархо-индивидуализму не утрачен и сегодня, в условиях, когда свобода все более превращается в формальность, а ситуация социальной нетерпимости приводит к активизации разнообразных протестных движений.
Нельзя не согласиться с исследователем П.В. Рябовым, отметившим, что Штирнер сделал значительный «шаг вперед по пути освобождения пробудившейся личности, открыл новые подходы и темы в философском понимании антропологической, этической, психологической и социологической проблематики» [2].