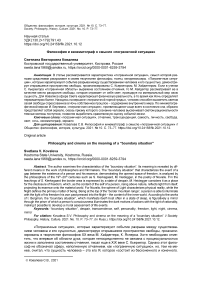Философия и кинематограф о смысле "пограничной ситуации"
Автор: Ковалева Светлана Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается характеристика «пограничной ситуации», смысл которой разными средствами раскрывают в своем творчестве философы, поэты, кинорежиссеры. «Пограничные ситуации», которые характеризуют событие разрыва между существованием человека и его сущностью, демонстрируя открывшееся пространство свободы, проанализированы С. Кьеркегором, М. Хайдеггером. Если в учении С. Кьеркегора «пограничная область» выражена состоянием отчаяния, то М. Хайдеггер рассматривает ее в качестве места раскрытия свободы, которая отражает от себя свет, проецируя на материальный мир свою сущность. Для Новалиса сфера Света характеризует физическую реальность, в то время как Ночь определяет первоматерию бытия. Находясь на вершине «пограничной горной гряды», человек способен высветить светом своей свободы спрессованное в Ночь собственное прошлое - содержание внутреннего мира. По кинематографической версии И. Бергмана, «пограничная ситуация», проявляющаяся чаще всего в состоянии сна, образно представляет собой зеркало, сквозь призму которого сознание человека высвечивает светом рациональности темные мотивы поступков, позволяя выработать нравственную оценку событий жизни.
"пограничная ситуация", отчаяние, трансценденция, самость, личность, свобода, свет, ночь, кинематограф, зеркало
Короткий адрес: https://sciup.org/149138528
IDR: 149138528 | УДК: [130.2+179]:791.43 | DOI: 10.24158/fik.2021.10.12
Текст научной статьи Философия и кинематограф о смысле "пограничной ситуации"
Костромской государственный университет, Кострома, Россия ,
,
Однако синтез – это отношение, которое, хотя и будучи производным, относится к самому себе, а это уже есть свобода. Я – это свобода». Отчаяние, рассмотренное «под углом зрения категории сознания», можно охарактеризовать так, что «оно, во всяком случае, отлично от естества. Если исходить из самого принципа, то отчаяние, конечно же, всегда имеет отношение к сознанию, но отсюда еще не следует, что индивид, в котором поселилось отчаяние и которого потому следовало бы называть отчаявшимся, всегда это отчаяние сознает» [1, с. 9]. Другими словами, отчаяние как определенное состояние духа относится к сущности человека, связано с его Я, и в то же время отличается от естественной телесно-физической жизни, характеризуя зазор между свободой и существованием. Вот это пространство внутреннего мира, заполненное, по мнению С. Кьеркегора, отчаянием, которое как состояние отодвигает сущность человека от способа его существования, и есть «пограничная область» сознания.
Для М. Хайдеггера «пограничная ситуация» в сознании человека открывается в результате аналитики Da-sein, то есть в понимании того предельного основания бытия «здесь и сейчас», которое одновременно есть и источник, и итог его жизни. Согласно философу, указанная ситуация высвечивается в процессе осознания границы, отделяющей неподлинное существование человека от подлинного. Этот предел есть смерть, вызывающая состояние страха, который заполняет область пограничности внутреннего мира и способствует трансценденции к собственной сущности*. М. Хайдеггер утверждает, что «человеческое присутствие как “пространственно” эк-зистирующее среди других возможностей имеет и возможность пространственного “превосхождения” пространственной границы или пропасти. Трансценденция есть однако превосхождение, делающее возможными такую вещь как экзистенция вообще, а с нею и “само”-движение-в-про-странстве» [2, с. 184].
С уверенностью можно сказать, что, осуществляя свою жизнь в материальном мире, ориентированную на удовлетворение психофизиологических потребностей, человек рано или поздно приходит к осознанию того факта, что вечно это продолжаться не может. Понимая конечность жизни, испытывая состояние страха перед смертью, он способен к трансценденции, «превосхождению» собственной пространственной границы в сферу метафизическую, в которой обретает самооснование своей экзистенции как источник движения и развития.
М. Хайдеггер считает, что процесс трансценденции «конституирует самость» личности, которая, предвозвышаясь над природой, отражает от себя свет, проецируя на материальный мир свою сущность. Философ пишет, что такое «набрасывающе-охватывающее допущение мирения мира есть свобода. Лишь поскольку эта последняя составляет трансценденцию, она способна дать о себе знать в экзистирующем присутствии как отличительный род каузальности» [3, с. 185]. Являясь источником причинно-следственных связей, которые, воплощаясь в реальности, создают пространственную процессуальность жизни человека, свобода в то же время рассматривается философом как предел рефлексивности, высвечивая «пограничную ситуацию», за которой располагается смерть. Свобода, будучи истоком простирания жизни, определяет открытость «для человеческого поселения и обитания». По сути, являясь началом воплощения творческих способностей личности, феноменальность свободы характеризует наличие возможностей реализации судеб созидающего свое существование человека, которые «повертываются или к целительности родины, или к гибельной безродности, или уже к равнодушию перед лицом обеих. Простор есть высвобождение мест, вмещающих явление бога, мест, покинутых богами, мест, в которых божество долго медлит с появлением» [4].
Удивительным образом понимание свободы М. Хайдеггером как источника, высвечивающего пространство жизни, отсылает нас к творчеству Новалиса, который в своем произведении «Гимны к ночи», в первой главе дает характеристику Света. Именно Свет как метафизическая стихия, пробивающаяся в пространство земного бытия через свободу, позволяет пережить заманчивую прелесть природы и связанное с ней существование человека. Будучи властителем Дня, который именуется Новалисом как «король земной (дольней) природы», который «раскинул радостный Свет свои праздничные шатры» [цит. по 5, с. 120]. По сути, образ праздничных шатров, которые раскидывает или накидывает на земную жизнь Свет, соответствует хайдеггеровскому понятию «событие простора», что «дает править открытости, допускающей, среди прочего, явиться и присутствовать вещам, от которых оказывается зависимым человеческое обитание» [6].
Будучи временным, такое обитание не может долго радовать личность, поэтому Новалис во второй главе своих «Гимнов» переходит к описанию Ночи, приближение которой одновременно и страшит человека, и завораживает. По свидетельству Т. Карлейля: «Под словом “ночь”
Новалис подразумевает гораздо больше, чем простую противоположность дню. “Свет” в этих поэмах обозначает нашу земную жизнь; ночь – первоначальную небесную» [7, с. 200]. В ясности Дня жить прекрасно, заботы мира сего необходимы для того, чтобы созидать и преобразовывать то, что высвечено Светом свободы, что открыто человеку на уровне природной реальности. Однако именно первоматерия Ночи, из которой пробивается самость личности в начале жизни и в которую она вновь возвращается на исходе Дня, завораживает взгляд, притягивает к себе. Новалис пишет: «Кто стоял на вершине пограничной горной гряды (Grenzgeburge) и смотрел вниз, на новые земли, в обитель Ночи, поистине, не вернется тот назад к суете мира, в страну, где в вечном смятении (in ewiger Unruh) правит Свет» [цит. по 8, с. 120].
По сути, ситуация, в которой находится человек, пребывая на вершине Света и заглядывая в бездну своего внутреннего мира, в свое темное, спрессованное в Ночь прошлое, и является «пограничной». В данном случае луч свободы, меняя ракурс с внешнего восприятия реальности на имплицитность собственного существования, высвечивает те мотивы поступков, которые определяли жизнь личности, оценивает их с точки зрения нравственности и человечности – вечных экзистенциалов бытия. Можно сказать, что «пограничная ситуация» является своеобразным зеркалом, сквозь призму которого для человека становится видимым, доступным для рационального осмысления собственный внутренний мир, проявляющийся в образах, символах или архетипах бессознательного.
Показательным и реалистичным примером, раскрывающим содержательно смысл философского анализа «пограничной ситуации», может служить художественный фильм шведского режиссера И. Бергмана «Земляничная поляна», снятый в 1957 году*. Размышляя о творчестве этого мастера, А. Тарковский пишет, что в его фильмах люди «вдруг ощущают в себе прилив родственной близости, ту человеческую тягу друг к другу, которую не подозревали в себе еще за минуту до этого. И тут же возникает щемящее ощущение пробужденной человечности, которое тем более волнует, что в фильмах Бергмана такие мгновения мимолетны, скоротечны». Молчаливая пауза в общении между героями заполняется звучанием музыки, благодаря которой создается «некий вакуум, некое свободное пространство, где зритель ощущает возможность заполнить духовную пустоту, почувствовать дыхание идеала» [9].
«Свободное пространство» как «пограничная ситуация» между существованием и бытием личности, в которой, как в зеркале, отражается прошлая жизнь героя, проявляется в фильме «Земляничная поляна» несколько раз. Первый раз в начале кинокартины, в котором показан сон Исака Борга, 78-летнего доктора, прожившего жизнь по определенным жестким принципам, практически не содержащим человечности, душевной теплоты, любви ∗∗ . Оказавшись во сне в незнакомом, абсолютно пустом, полуразрушенном городе, герой пытается определить время, однако и наручные часы, и городские, висящие на уличном столбе, не имеют стрелок.
Ситуация, которая разворачивается в «нигде» и «никогда», отсылает зрителей к образному видению внутреннего мира Исака Борга, в котором он встречает себя в совершенно неожиданном виде. Под звук отдаленно звучащего колокола доктор видит бредущий, запряженный лошадью катафалк, который, зацепившись колесом за столб с часами без стрелок, опрокидывается, и «живой» труп героя хватает его и удерживает «мертвой хваткой», не давая вырваться. По сути, Бергман средствами кинематографа раскрывает смысл теории К. Юнга о бессознательной сфере как глубинном слое внутреннего мира, который проявляет себя во сне, когда контроль сознания, детерминированный рациональными принципами и установками, ослабевает.
В данном контексте сон как «пограничная ситуация» высвечивает те мотивы поступков, которые, когда-то проявляясь в прошлых событиях жизни, сознанием вытеснялись, подавлялись, поэтому и оказались спрессованными в архетипы бессознательной области. Теперь реализуясь в форме образов сна, они «содержат предсказательный или прогностический компонент... Такой сон часто приходит прямо с небес и остаётся лишь удивляться, что побудило его быть таким… Но это только наше сознание не знает, бессознательное же осведомлено, сделало выводы, каковые и выразило во сне. Фактически бессознательное способно исследовать ситуации и делать свои выводы ничем не хуже, чем сознание» [10].
Отправляясь на машине в город Лунд для получения награды за многолетний труд в качестве врача, Исак Борг берет в попутчицы свою невестку, гостившую у него, и в дороге он рассказывает ей свой «странный сон», соглашаясь с «выводами» бессознательного, что, еще будучи живым, он уже стал мертвецом. В чем же видит смысл собственной смерти главный герой фильма? На этот вопрос отвечает вторая «пограничная ситуация», которая так же, как и первая, проявляется во сне. Заснув в машине после нескольких встреч с разными людьми, доктор видит земляничную поляну возле старого дома, в котором каждое лето его многочисленная семья отдыхала. В своем сне он ведет разговор с кузиной Сарой, которая, молодая и красивая, держит в руках зеркало, заставляя Исака, старого человека, заглянуть в него.
Отворачиваясь от блеска, исходящего от зеркальной поверхности, он хочет уклониться от погружения в себя, не желая последовать за лучом Света в свой внутренний мир, чтобы не тревожить совесть. Но девушка настаивает, и доктор нехотя покоряется ее воле. Оказывается, что Сара – это единственная любовь его молодости, да, пожалуй, и всей жизни, которая, понимая глубокий внутренний мир Исака, в спутники жизни выбрала его брата Зигфрида, отдав предпочтение его чувственной, страстной натуре. И теперь в себе, как в зеркале, она показывает, что для нее смыслом жизни было стремление стать любимой, желанной женой, матерью, а все это она обрела с Зигфридом, связав свою жизнь с его «домом», с его внутренним миром.
Видимо, поэтому желание доктора именно с Сарой читать стихи, погружаться в красоту звуков, музицируя на пару, размышлять о Боге осталось нереализованным, «умерло» в его сознании и было вытеснено в бессознательную сферу, оставив в свете его воли стремление жить долгом, основанным на жестких рациональных принципах, связанных с воплощением медицинских знаний в докторской практике жизни. Но эти знания оказываются бессмысленными, совершенно не нужными в его отношениях с женой, когда он узнает о ее измене, которая произошла случайно, под влиянием плотской страсти, для самой женщины неприятной и постыдной. Холодность и равнодушие Исака, как она сама поясняет, и спровоцировали ее на совершение нелицеприятного поступка. Стыд доктора от того, что в памяти всплыла именно эта ситуация, безысходность в словах жены смутили его, лишили покоя, что и выразилось в форме сна.
Кинематографическими приемами И. Бергман помогает зрителям понять, что в «пограничной ситуации» сознание человека работает особым образом. В частности, доктор Борг, попадая в такую область в момент сна, остается в темном пространстве кадра, как в Ночи своих духовных блужданий. В случае с воспоминаниями об измене жены, он продирается к самому событию через лесные, темные дебри, которые состоят из поваленных, кое-где обожженных деревьев, и, наконец, на выгоревшей поляне, освещенной светом луны, видит сцену физической, животной близости между мужчиной и женщиной. Таким образом, само событие как смысловая цель воспоминания, как содержание архетипа попадает в Свет его сознания, его свободы. И если в реальности жизни это событие приносило боль и усилием воли героя вытеснялось в Ночь бессознательного, оставляя пространство свободы заполненным одиночеством и равнодушием, то во сне ситуация высвечивалась. Режиссер прием использования Света Луны в этом эпизоде применяет, чтобы показать, как это отрицательное состояние преобразовалось сознанием, наполнилось человечным смыслом, и память о жене осветилась пониманием ее поступка, а также собственной виной перед ней.
Список литературы Философия и кинематограф о смысле "пограничной ситуации"
- Кьеркегор С. Болезнь к смерти. М., 1993. 344с.
- Хайдеггер М. Что такое метафизика. М., 2013. 288 с.
- Хайдеггер М. Искусство и пространство. М., 1993.
- Левочский С.С. Тема смерти и ночи в творчестве Э. Юнга и Новалиса // Человек. 2015. № 4. С. 114-124.
- Хайдеггер М. Искусство.
- Карлейль Т. Новалис. Литературный этюд // Новалис. Генрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученик в Саисе. СПб., 1995. С. 191-239.
- Левочский С.С. Указ. соч. С. 120.
- Бергман и Тарковский [Электронный ресурс] // Журнал "Сеанс". URL: https://seance.ru/articles/bergman-itarkovskiy/(дата обращения: 01.10.2021).
- Юнг К.Г. Душа и смерть // Отечественные записки. № 1 (28). 2006.