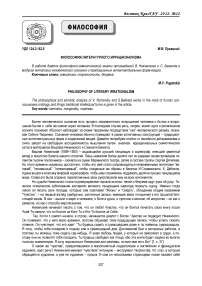Философия литературного иррационализма
Автор: Пугацкий М.В.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2012 года.
Бесплатный доступ
В работе дается философско-семиотический анализ произведений В. Нижинского и С. Беккета в модусах онтологии человеческого сознания и традиционных интеллектуальных форм вещей.
Семиотика, пограничность, безумие
Короткий адрес: https://sciup.org/14082184
IDR: 14082184 | УДК: 124.2:
Текст научной статьи Философия литературного иррационализма
Бытие человеческого сознания есть процесс перманентного вопрошания человека о бытии и вопрошания бытия о себе же самом через человека. В последнем случае речь, скорее, может идти о религиозном аспекте познания: Абсолют наблюдает за своим творением посредством “ока” человеческого разума, познавая Себя-в-Творении. Сознание человека обычно помещают в рамки когнитивных конструкций – традиционных интеллектуальных форм и содержаний вещей. Давайте попробуем отойти от линейного детерминизма и снять запрет на свободную ассоциативность мышления путем анализа иррациональных семиотических сеток в материалах Вацлава Нижинского и Сэмюэля Беккета.
Вацлав Нижинский (1889–1950) – выдающийся русский танцовщик и хореограф, внесший заметный вклад в искусство балета нашего столетия. Лишь немногим более десяти лет он радовал своим ярчайшим талантом тысячи поклонников – сначала на сцене Мариинского театра, затем в составе труппы Сергея Дягилева. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы его имя стало сопровождаться непременными эпитетами “великий", "гениальный", "неповторимый”, чтобы созданные им образы в балетах И.Стравинского, К. Дебюсси, Адана вошли в классику мировой хореографии, чтобы ему стремились подражать десятки лучших танцовщиков мира. Слава его была огромна, переполненные залы рукоплескали ему на всех континентах.
Но судьба Нижинского стала подтверждением горькой истины: гений и безумие идут рука об руку. Тяжелое психическое заболевание заставило великого танцовщика навсегда покинуть сцену. Именно тогда начал он писать свои тетради, которые сам озаглавил “Жизнь” и “Смерть”, объединив общим названием “Чувство”, – на первый взгляд сумбурные, хаотичные записи, имевшие мало отношения к его прошлой блестящей жизни. В них – мысли о мире и человеке, о Боге и душе, о суетном и вечном, об искусстве – не как о ремесле, но как о способе миропознания.
Нижинский начинает писать о том, что он любит Чувство, что он боится печатать свою книгу после Чьей-То смерти, что он боится за Кого-То и Кто-То боится за Себя.
Так, почти с самого начала, в строку, начинается диалог с Богом. Чувство не подводит Нижинского. Он понимает, что у него мало времени, поэтому обрывает свои предыдущие записи, чтобы успеть сказать главное. Он чувствует, что его ждет: “Ты будешь сидеть в сумасшедшем доме и ты поймешь сумасшедших. Я хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму или в сумасшедший дом. Достоевский был в каторжных работах, а поэтому ты можешь тоже сидеть где-нибудь. Я знаю любовь людей, у которых не замолкает в груди, а поэтому они не позволят тебя посадить. Ты будешь свободен как птица, ибо эта книга будет издана во многих тысячах экземпляров. Я хочу подписаться Нижинским для рекламы, но мое имя есть Бог” [1, с. 37].
О каком же “чувстве”, превратившемся в малопонятный подзаголовок в английском и французском изданиях, идет речь? Нижинский именует “чувством” интуицию – инструмент творчества, тот слух, в который обращается художник, и уже не художник – пророк. И сам он несколькими страницами позже назовет себя проповедником. Это чувство ни разу не подвело Нижинского-артиста, когда он потрясал души всех, кто видел его на сцене. Оно же вело его, хореографа, когда он, не ведая дороги, пошел в неизвестность. И кто знает, может быть, оно же присматривало за ним, когда он, уже полубезумный, блуждал по окружающим городок Сен-Мориц горам, не один раз рискуя соскользнуть в заснеженную пропасть.
“Я не люблю толпы. […] Я буду писать много, ибо я хочу людям объяснить, что такое жизнь, а что такое смерть. Я не могу писать скоро, ибо у меня мускулы устают. Я не могу больше. Я мученик, ибо чувствую боль в плече. Я люблю писать, ибо я хочу помочь людям. Я не могу писать, ибо я устал. Я хочу кончить, но Бог не дает мне. Я буду писать до тех пор, пока Бог меня не остановит… […] Я пойду на вокзал пешком, а не на извозчике. Если все поедут, то я тоже поеду. Бог хочет показать людям, что я такой же человек, как и они…
Я поеду сейчас…
Я жду…
Я не хочу…”[1, с. 244–245].
Так заканчивается вторая и последняя часть записок Нижинского “Смерть”. Нижинский не успевает даже подписаться, как под первой частью, “Жизнь”: “Бог Нижинский”. Не успевает поставить дату. В этот день Нижинский в сопровождении жены и ее матери выедет из Сен-Морица в Цюрих, где по рекомендации врачей будет помещен в санаторий Бельвю – лечебницу для душевнобольных, откуда уже больше никогда не выйдет.
В данном случае логоцентризм успешно преодолевается безумием: именно благодаря ему Нижинский теряет страх перед дискурсом в семиотической конструкции, перед бесконтрольным, чреватым непредсказуемыми случайностями бытием. Его речь становится неудержимой, прерывистой, воинствующей, наивноискренней. Он пишет, что превращается в "слух". Вслушивание есть величайший философский процесс познания речи, речи не говорящей, а речи, по хайдеггеровскому определению, как “выговоренности языка”. Он “слушает” Молчание, т.е. обретает самое бытие через трансцендентальную ответственность и собранность – со-бытийствует, но уже не жизни, в которой пребывал как часть Логоса, а смерти, в которую возвращается для “растворения” в целом, безграничном бытии.
Нижинский жил на границах: жизнь-смерть, человек-публика, человек-Бог. Бинарное противостояние оппозиционных элементов исключается трансгрессией, т.е. переходом человеческого сознания за границы собственного “Я” путем отказа от усмотрения глубинного смысла и имманентной логики в бытии и сущности любого феномена: нет смысла дальше жить, необходимо “бежать”, “идти на вокзал пешком”, чтобы показать, что он “такой же человек, как и они” – люди, чтобы “быть свободным как птица”.
Нет схоластики, словесного декора и украшательства в работах С. Бэккета (1906–1989) – ирландского писателя, последовательно проводившего в своем творчестве линию на “деиндивидуализацию”, неразличение формы и содержания, архетипическое бытие, существующее вне времени и пространства. Убежденный в принципиальной абсурдности мира, Беккет отвергает язык конвенциональный, логический в пользу языка дорефлексивного, алогического, бессознательного, спонтанного. Он одержим идеей смерти, и его слово непосредственно соприкасается с Молчанием, остановить его “язык” невозможно.
“Куда бы я пошел, если бы я мог идти, кем бы я был, если бы я мог быть, если бы я сказал, если бы у меня был голос, кто это там говорит, говоря, что это я говорю? Ответьте просто. Это все тот же вечный незнакомец, единственный, для которого я существую, в шелке моего небытия, его небытия, нашего, вот самый простой ответ […] Он заставляет меня говорить, говоря, что это не я, согласитесь, что это ловко подстроено, он заставляет меня говорить, что это не я, а я-то ничего не говорю…” [2, с. 102].
Жак Деррида, утверждает, что любой Автор всегда привносит в текст “другого”. На мой взгляд, в противном случае, Автор был бы лишен диалога с самим собой. Расколотое “Я” – не трагедия, а предпосылка к началу новой жизни – в другом образе, в другой форме, в другом мире и во всем остальном “другом”. Расколотое “Я” отсылается в прошлое, вытесняется из памяти, предается забвению с целью вхождения в “иное бытие”. “Письмо – это исход, как нисхождение из себя в себе смысла: метафора-для-другого-ввиду-другого-который-здесь, метафора как метафизика, в которой бытие должно скрыться, если мы хотим, чтобы появилось иное…” [4, с. 46].
В произведениях Беккета мы видим феномен самодвижения семиотических сред, автохтонный и имманентный разговор самого языка с самим собой. И в этом хоре отсутствует предикативная логика, а иногда – синтаксис и пунктуация.
“Вижу все в натуральную величину в том числе и в мою вспышка света в грязи молитва голова на столе крокус старик в слезах слезы из-под пальцев небеса все самое разное на земле на море внезапную синеву золото зелень земли внезапно в грязи но слова как сейчас слова не мои до Пима нет нет так не говорят большая разница я ее слышу между тогда и теперь какую-то разницу среди подобий…” [3, с. 135].
У всякого содержания есть форма. И это философская аксиома. Текст – это одна из разновидностей формы выражения и существования различных объектов, их свойств и связей. Благодаря тексту эти объекты, свойства и связи становятся единым целым – “картиной мира”. Чтобы начать писать-“слушать”, необходимо приложить определенное усилие – Волю. Таким образом, в содержании-“Языке”-“Молчании” уже заключена Сила. Следовательно, форма – есть напряжение самой этой Силы. Аналогичным образом художественное произведение – всегда результат приложения Воли Автора, выражение Его содержания, “выговаривание” Его Языка, демонстрация Бытия, имеющего различные формы с равным правом на существование. Тогда “безумный” Нижинский вовсе не покажется нам безвольным и слабым, а Беккет, блуждающий по лабиринтам бытия и бесконечно приближающийся к смерти, – живым мертвецом. “Воля писать не понимается, исходя из некоего волюнтаризма. Письмо – это не последующее определение какого-то первичного хотения. Напротив, письмо пробуждает смысл воли к воле: свободу, разрыв со средой эмпирической истории в горизонте согласия со скрытой сущностью эмпирии…” [4, с. 22].
Форма произведения – это то, на что человек нацелен, что он хочет преподнести себе, иметь перед собой, поставить перед собой. Человек через письмо собирает, спасает, принимает, сберегает и глядит в глаза эмпирическому хаосу. Человек наблюдает за хаосом, а последний захватывает человека своей непо-таенностью, открытостью для пребывания в Себе.
Сила иррационального мышления, накладывающаяся на семиотическую сетку и пытающаяся преодолеть ее, есть какая-то неведомая Божественная Сила, трансцендентная Воля – Вездесущая и Бесконечная. Рациональное мышление циклично и замкнуто в своем круге “начало-конец”, но иррационализм как постоянное довершение Бытия не имеет предела. Погружаясь в глубины истинного Бытия, которое зачастую в рациональной жизни кажется безумием, человек обретает бессмертие. Здесь уже нет ни объекта, ни субъекта – все границы стерты, антропологизация Языка преодолена, Человек в Боге (“Бог Нижинский”). “ТАМ НАВЕРХУ все озаряется светом короткие сценки в грязи или память о стародавних он находит слова во имя покоя ЗДЕСЬ…” [3, с. 186]. “Слово” выступает у Беккета лишь в качестве произвольного “указателя” или “индикатора”, сообразуясь в форму, делая весь текст “картиной мира” “во имя покоя”.
“Эго” движется к покою – к Богу. Этот Бог и является тем самым “другим” в произведениях Нижинского и Беккета. Но “Эго” всегда запаздывает: содержащийся в текстах смысл является по отношению к Абсолютному Бытию (Богу) вторичным. Прилагая усилие (Волю), Автор запаздыванием смысла лишь усиливает Бытие, второй раз поставляя Его на место “быть”. Поэтому финальное отождествление бытия и смысла никогда не состоится. Человек обретает покой только тогда, когда перестает ставить смысл на первое место, вместо Бытия, и вообще отказывается от какого бы то ни было смысла. Иоанн Златоуст наставлял о том, чтобы у нас исчезла “надобность в писании”, чтобы наша жизнь оказалась столь чистой, чтобы “благодать духа заменила бы в нашей душе книги и записалась бы в наших сердцах”, поскольку “письмена – это второе плавание”.
Оба – Нижинский и Беккет – в своих произведениях стремятся к освобождению своей души от ее физической оболочки – тела, которое подвергают изощренному словесному “унижению”, что свидетельствует о подсознательном желании ускорить процесс соединения с Богом.
Нижинский: “Я много раз говорил, что мясо есть скверно […] Я после еды скучен, ибо чувствую мой желудок” [1, с. 48]. “Я знаю, что такое живот. Живот имеет кишки, желудок, печень, мочевой пузырь и прочее […] Мне еда не важна, ибо я из нее ничего не делаю” [1, с. 163]. “Я есть человек от Бога, а не от обезьяны…” [1, с. 65].
Беккет: “Он погибает от легких, я скорее от простаты […] Я ставлю себе катетер в одиночестве, дрожащей рукой, стоя в общественной уборной, согнувшись пополам, накрывшись плащом, чтобы меня никто не видел, меня принимают за порочного старикашку. Тем временем он ждет меня на скамейке, вибрируя от приступов кашля…” [2, с. 99]. “Другой бок левая нога левая рука тяни толкай голова и верхний отдел позвоночника отрываются от поверхности чтобы меньше трения падают ползу иноходью десять метров пятнадцать метров стоп…” [3, с. 134].
“Если бы я сказал: «Там есть выход, где-то есть выход», остальное случилось бы само собой. Чего же я жду, почему не скажу, не поверю? И что означает «остальное»? Стану ли я отвечать, искать ответ, или пойду дальше, словно ничего не спрашивал? Не знаю, ничего не могу знать заранее, ни потом, ни одновременно, будущее покажет, близкое или далекое…” [2, с. 114].
Итак, деконструктивизм в работах Нижинского и Беккета подвергает сомнению абсолютность человеческого разума, поскольку деконструктивизм определяется не только традиционными интеллектуальными средствами. Амбиции частного дискурса на статус универсалии абсурдны, так как разум себя как оправдывает, так в то же самое время и критикует. Необходимо отойти от этого абсурда. Отказ от смысла существования, от жизни, от разума? А, может быть, Бог? Если бы и я знал, где есть выход. Философское вопрошание бесконечно.
Стремление к смерти у Нижинского и Беккета сопряжено с возрождением в новой жизни. Смерть в их понимании – это не самоубийство, а вера в бессмертие бытия: их произведения отрицают финализм. “Стало быть, ты в жизнь еще веруешь!..” – говорит сестра Раскольникова, когда тот вернулся после попытки самоубийства. “Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали; я верую, а ее просил за меня молиться. Это Бог знает как делается… и я ничего в этом не понимаю…” [5, с. 399].