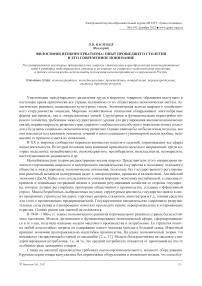Философия неоконсерватизма: опыт прошедшего столетия и его современное понимание
Автор: Васильев Олег Николаевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются некоторые принципиальные вопросы становления и преобразования неоконсервативных идей в развитых индустриальных странах и их влияние на социально-экономические изменения, а также возможность использовать положения неоконсерватизма в современной России.
Неоконсерватизм, неокейнсианство, производство, потребление, перераспределение, система, трудовые ресурсы
Короткий адрес: https://sciup.org/14821799
IDR: 14821799
Текст научной статьи Философия неоконсерватизма: опыт прошедшего столетия и его современное понимание
Участниками международного разделения труда и мирового товарного обращения выступают в настоящее время практически все страны, независимо от их общественно-экономических систем, политических режимов, национально-культурных типов. Экономическая выгода широкого хозяйственного сотрудничества очевидна. Мировые хозяйственные отношения обнаруживают многообразные формы как прямых, так и опосредованных связей. Структурная и функциональная перестройка мирового хозяйства, требование межгосударственного уровня для регулирования внешнеэкономических связей, неравномерность развития стран мирового сообщества способствуют появлению новых подходов к будущему социально-экономическому развитию. Однако какими бы ни были новые подходы, все они находятся под влиянием основных течений и школ социально-гуманитарной мысли вообще, независимо от времени и места их появления.
В ХХ в. мировое сообщество пережило множество взлетов и падений, затрагивавших все сферы жизнедеятельности. Во второй половине века внимание привлекали несколько направлений, среди которых выделялись неокейнсианство, неоконсерватизм, неолиберализм, неоклассицизм, неомарксизм, институционализм, радикализм и др.
Неокейнсиансткие теории распространены весьма широко. Представители этого направления являются сторонниками широкого и всестороннего вмешательства государства в экономику отдельного общества и международные экономические отношения, поскольку без государственного регулирования рыночный механизм конкуренции ведет к диспропорциям, кризисам и катаклизмам. Английский экономист Дж.М. Кейнс и его последователи считали мировую экономику нестабильной, а спасение от кризисов и социальных потрясений видели в усилении регулирования хозяйства со стороны государства, которое должно регулировать пропорции общественного производства, создавая «эффективный спрос». Массы безработных, выброшенных на улицу структурным кризисом, государство заняло в своих программах строительства дорог, торговых центров, стадионов, кинотеатров и т.д., взимая средства для этого с процветающих предпринимателей. Государственное вмешательство сдерживало разрушительные силы рынка и одновременно помогало преодолеть кризис перепроизводства в устаревающих отраслях. Однако рынок как таковой не подавлялся.
В 1940 – 1960-е гг. темпы экономического развития в промышленно развитых странах были устойчиво высокими. Модель организации и функционирования экономической сферы, сформировавшаяся в те годы, получила название модели массового производства и потребления. Ее стратегия понятна любой домохозяйке: затраты на содержание одного человека меньше в большой семье. Известный принцип экономии пропорционально масштабам производства. На языке экономической теории это называется «возрастающей отдачей от масштаба» [2, с. 31]. Модель была рассчитана на массовое стандартизированное потребление, т.е. на то, что средний потребитель откажется от притязаний на что-то особенное ради дешевизны товаров.
Ставка на масштаб производства требовала высокопроизводительного, мощного оборудования. Крупные серии товара выпускались без переналадки оборудования и изменения модели, что способст- вовало созданию конвейерного производства. Конвейер в свою очередь принес специфическую организацию производства: расчленение его на мелкие, простые, многократно повторяющиеся операции. Сложилась особая идеология массового производства: выше всего ценились дисциплина, исполнительность, централизованное руководство.
Грандиозность масштабов покорила и научно-техническую мысль – она сосредоточилась на наращивании объемов, скоростей, мощностей, грузопотоков. Гигантомания присутствовала практически во всех отраслях производства.
На рынке производители боролись за массового покупателя, главным способом борьбы стала игра цен. Если удавалось потеснить одних конкурентов и сговориться с другими, можно было уже контролировать цены. Конечной целью выступала максимальная прибыль; монопольное положение на рынке гарантировало сохранение уровня прибыли.
До возникновения капиталистического способа производства человечество страдало от недопроизводства товаров. Капитализм породил перепроизводство, что потребовало подготовки массового потребителя, а соответственно, и «философии спроса». Дешевая энергия и дешевое сырье делали модель массового производства исключительно эффективной. Предложение товаров и услуг могло нарастать как бы бесконечно. Платежеспособный массовый потребитель был создан целенаправленной социальной политикой государства, опиравшейся на следующие принципы:
– товары продаются в кредит;
-
– на рынке средств производства устанавливается низкий банковский процент;
-
– государство является крупнейшим потребителем (размещает заказы на предприятиях и гарантирует сбыт готовой продукции);
-
– формируется активная социальная политика (социальные пособия должны быть достаточными для того, чтобы их получатели были активными потребителями).
Созданный в свое время советской пропагандой образ голодающего безработного, готового продать свою почку, чтобы не умереть с голоду, ночующего под мостом, роющегося в мусорном баке, вызвал бы смех в промышленно развитых странах – в таком положении оказывался лишь полностью опустившийся люмпен. Безработные оставались в массе своей нормальными потребителями, хотя и не совсем полноценными по некоторым группам товаров и услуг. При постоянном расширении производства, те, кто пытался поднять свой статус, безработными оставались недолго. Более того, рабочую силу в промышленно развитые страны начали ввозить во все бóльших масштабах, т.к. местные безработные отказывались заполнять вакансии, связанные прежде всего с физическим трудом, низкой квалификацией, а соответственно, и низкооплачиваемые.
Ускоренный рост потребителей по отношению к производителю породил две противостоящие друг другу общественные группы: тех, кто регулярно работает и платит налоги, и тех, кто не работает, но получает достаточное пособие. Довольно большая социальная группа сформировала своеобразную субкультуру пособий. Работающий гражданин трудился в два раза больше и, соответственно, получал больше, но налоги за это время вырастали в 3–5 раз. В результате законопослушный налогоплательщик получал денежное вознаграждение всего на 10% больше. И это указывает на еще один принцип: государство проводит политику высокого прогрессивного налогообложения.
Модель массового производства позволила действительно создать государство с достаточно стабильным и высоким уровнем потребления. Эта модель обеспечила промышленно развитым странам почти три десятилетия стабильного развития. Если рассматривать промышленно развитые страны как сложную социально-экономическую систему, то можно сказать, что она проходила через период инерционного развития. Теория систем утверждает, что в такие периоды структура системы сохраняет свои основные характеристики, но вместе с тем обладает определенной степенью гибкости. Обратные связи, встроенные в структуру, позволяют ей реагировать на возмущения, вызванные как внутренним развитием, так и внешними обстоятельствами. Пример такого встроенного стабилизатора экономики – прогрессивный налог: на подъеме он предохраняет экономику от перегрузок, при спаде смягчает па- дение. Как следствие, социальные пособия в период спада повышаются, сохраняя платежеспособный спрос.
Однако эта сложная социально-экономическая система не принадлежала к классу «перпетуум мобиле», поскольку существовала за счет ресурсов извне, ею не воспроизводимых. Наиболее ярко проявилось ограничение энергетических ресурсов. Существуют разные концепции энергетического кризиса 1970-х гг., но ясно одно: за ним стояло противоречие между стремительно возраставшим потреблением нефти и ограниченностью ее запасов. За эти годы уровень цен на топливо вырос по отношению к ценам на готовые изделия в пять раз.
Важным фактором выступало и экологическое ограничение. Действовавшая модель развития была расточительной и потому антиэкологичной. Природа рассматривалась в ней как неограниченных размеров место для сброса отходов. Это существенно влияло на дешевизну массового производства. Нежелание просчитать последствия своих действий всегда плохо заканчивается, в особенности в отношениях с природой. В результате в интересах самосохранения промышленно развитые страны были вынуждены пойти на чрезвычайные издержки по охране природной среды.
Еще один важный фактор – трудовые ресурсы. С ними в 1960-е гг. почти во всех развитых странах сложилась напряженная ситуация. В силу объективных причин в до- и послевоенные годы снизилась рождаемость. Доля сельского населения уменьшилась настолько, что город перестал получать рабочую силу из традиционного источника, а темпы экономического роста увеличивали спрос на работников. Эту проблему пытались решать по-разному: привлекали женщин в различные отрасли хозяйства, приглашали иностранных рабочих, не гнушались нелегальными иммигрантами. Ситуация благоприятствовала борьбе за повышение заработной платы, и она росла. Однако росли и издержки производства.
Произошли серьезные сдвиги в другой важной сфере, слабо поддающейся расчету: ослабли нематериальные стимулы к труду, изменилась система ценностных ориентаций работников, что не способствовало удовлетворению в рамках старой модели растущих потребностей. Массовое производство, требовавшее стандартизации и унификации принципов организации, предложенных в свое время Ф.У. Тэйлором и Г. Фордом [11], привело к отчуждению работника от производства, целей и интересов своего предприятия. Падение дисциплины труда, угрожающие размеры текучести рабочей силы требовали больших расходов на содержание резервных работников. Отчуждение, возникшее в недрах производства, распространялось на другие социальные сферы и выливалось в повсеместное недоверие к общественным институтам. Прежде, пока главные потребности работника состояли в том, чтобы обеспечить себе элементарные условия для существования, его интересам вполне соответствовало наращивание темпов производства в рамках старой модели. Со временем же, когда определенный уровень всеобщего благосостояния был достигнут, потребности расширились и уже не исчерпывались относительным материальным благополучием.
Молодые поколения, образованные по-новому, формировавшиеся в другой системе ценностей, стремились к самореализации, а в рамках фордистско-тэйлористской модели организации труда их возможности оказывались ограниченными. Работа для большинства оставалась только источником добычи средств к существованию, и, соответственно, интересы стали смещаться в другие сферы.
Этот процесс все большего отчуждения работников от своего профессионального труда был проанализирован в советской научной литературе, где речь шла о ситуации, сложившейся на отечественном производстве. Правда, сам термин отчуждение употреблялся не всегда, но феномен, обозначаемый им, рассматривался [13]. В процессе возникшей дискуссии обсуждались вопросы разрыва между уровнями образования и культуры, системой ценностей и потребностей и содержанием и условиями организации труда в различных сферах, прежде всего в промышленном производстве. По сути, речь шла об общемировом процессе, характерном для индустриально развитых стран.
Ограничителем дальнейшего развития стала и старая организационная структура экономической системы. Она была рассчитана на рамки национального хозяйства, но процессы интеграции на- циональных хозяйств в единую, мировую экономику активно выдвигались в авангард общемирового развития. Известные способы кредитной и фискальной политики вдруг стали вызывать неожиданный международный резонанс с непредсказуемыми последствиями. Подъем производства в одной стране немедленно вызывал приток импорта из других стран и нарушал ее торговый баланс; спад же производства обострял проблему безработицы не только в данной стране, но и в соседних странах. Резкие колебания цен на нефть и экономическая экспансия развивающихся экономик расшатывали международную стабильность и упорядоченность.
Не менее значимым оказался все увеличивающийся разрыв в уровнях научно-технического и экономического развития индустриально развитых и развивающихся стран. Нарастающий внешний долг развивающихся стран провоцировал кризис международных экономических отношений.
Кейнсианская модель социально-экономического развития, сыграв свою роль в решении насущных вопросов на определенном этапе, себя исчерпала. В 1971 г. на конференции Американской экономической ассоциации, проходившей под председательством Дж. Гэлбрейта, английский экономист Дж. Робинсон сказала: «Сегодня мы можем говорить о втором кризисе экономической теории на протяжении жизни одного поколения <…> И сейчас, когда видишь гигантски разросшуюся армию экономистов, невольно думаешь о том, насколько она увеличилась с тридцатых годов и как в результате этого возросло число дискредитированных вторым кризисом теоретиков по сравнению с теми, кто подмочил свою репутацию во время первого кризиса» [7]. Доктрина Дж.М. Кейнса – жесткая технология, имевшая свои позитивные элементы, выявила множество косвенных последствий (в первую очередь социокультурных, а также идеолого-политических), которые никто не смог просчитать [12].
В отличие от кейнсианского неоконсервативное и неоклассическое направления характеризуются тем, что их сторонники выступают против широкого государственного вмешательства в экономическую жизнь и в известной мере во внешнеэкономические отношения. Можно сказать, что эти подходы выступали авангардом борьбы с административно-командной системой. В практической деятельности они предполагают использование ограниченных косвенных методов регулирования с помощью денежно-кредитной политики. Важно отметить, что основным компонентом анализа являются рыночные процессы на уровне фирмы, т.е. на микроуровне.
Внутри прежней системы сформировались элементы, которые теперь стали определять ее дальнейшую судьбу. Речь идет о самонастраивающихся, саморегулируемых компонентах системы, порождающих многообразие; эти компоненты возникали на периферии и там оставались, т.к. не были востребованы в период инерционного развития. Важным фактором для качественного роста выступили многие фундаментальные и прикладные исследования, опробованные и тут же создающиеся новые организационные формы и, самое главное, внутренняя готовность к переменам. Этому способствовали большие резервные мощности, квалифицированные кадры, способные быстро освоить технические нововведения.
Внедрение новых энергосберегающих технологий не только в производстве, но и в быту, биотехнологии (прежде всего в сельском хозяйстве) и создание материалов с широким диапазоном заранее заданных свойств, т.е. с меньшим весом, меньшими затратами дефицитных ресурсов (например, волоконно-оптический кабель взамен медного; композиты и керамика взамен стали, алюминия и традиционных пластмасс и т.п.) позволили осуществить качественный прорыв по всем направлениям социально-экономического развития. Однако наиболее существенным, что уже создавалось в недрах прежней системы, стала электронно-вычислительная техника, послужившая основой производства микроэлектроники. Это был прорыв в организации и управлении производством: стала доступна исключительно тонкая настройка технологических процессов.
Особо следует отметить процесс информатизации, значение которого выходит за рамки структурного скачка и ведет к созданию информационного общества. Это особый социально-исторический процесс, связывающий воедино разнородную деятельность по ускоренному созданию, переработке, распространению и реализации знаний во всех сферах человеческой деятельности; это процесс, сопоставимый по историческому значению с аграрной и промышленной революцией.
К началу 1980-х гг. в промышленно развитых странах стабилизировалась экологическая ситуация. С этого периода началась полоса нового экономического подъема, и, как отмечают сторонники неоконсерватизма, рост валового национального продукта происходит при почти стабильном уровне потребления углеводородов.
В социальной сфере потенциал перестройки не уступает по своей мощи ни научно-техническому, ни производственному. Уровень благосостояния граждан промышленно развитых стран был достаточно высок для того, чтобы сравнительно легко перенести его временное снижение. Созданная в рамках «государства всеобщего благоденствия» система социального обеспечения, так называемая «страховочная сетка», оказалась настолько обширной и прочной, что смогла выдержать сброшенные на нее миллионы излишней рабочей силы. Адаптация работников к изменениям шла болезненно, но не кризисно. Общенационального социального взрыва не последовало. Хотя правительства неоконсерваторов достаточно жестко урезали социальные расходы, демонтажа системы социальной защиты не произошло. Эта система была перестроена применительно к новым условиям, сделана более рациональной и частично отдана в частные руки.
В основе новой модели социально-экономического развития принцип отдачи от масштаба был заменен на принцип отдачи от разнообразия. Стратегия производителя теперь состоит в том, чтобы на одном и том же комплексе оборудования изготавливать множество разнообразных мелких серий специализированных товаров. Они имеют довольно точный адрес с конкретными индивидуальными потребностями. Прежний рынок, заполненный бесконечными потоками стандартных товаров, распался на сегменты, в которых специфические вкусы и запросы находят свой товар.
Автоматизация, электронно-вычислительная техника свели к минимуму проблему переналадки: она производится легко и быстро целыми блоками. Та же электроника сделала возможной новую организацию производственных потоков: программируя поставки комплектующих деталей, можно менять модели на конвейере, не останавливая его.
Маленькую серию товара легче продать. Выигрыш – на сокращении времени оборота от сырья до продажи готового продукта. Отпадает необходимость в больших терминалах для нераспроданных остатков, сырья, комплектующих деталей. Потери сокращаются по всей цепочке производства. Научно-техническая мысль промышленно развитых стран сменила лозунг «больше, крупнее, выше, дальше, быстрее» на новый – «легче, тоньше, меньше, короче, экономнее».
Изменение структуры экономики привело к расширению сферы как бытовых, так и производственных услуг. В структуре издержек вырос удельный вес невещественных элементов, снизилась роль материального производства. Время, затрачиваемое на разработки и конструирование, подготовку к технологическим операциям, включая программирование, маркетинг и послепродажное обслуживание, стало сопоставимым с временем производства (а иногда и превышающим его). Жизненный цикл продукта стал укорачиваться по мере развертывания научно-технического прогресса, и это существенно изменило стратегию предпринимательства: выйти на рынок с технологически новым продуктом, коммерчески выгодно реализовать новинку и уйти с рынка, заменив ее очередным новшеством раньше конкурентов, стало гораздо важнее цены или монопольного контроля над рынком.
Соответственно изменилась судьба индустриальных гигантов. Многие исследователи считают, что основой японского успеха в конкурентной борьбе на мировых рынках стала мелкая и средняя фирма. В 1980 – 1990-е гг. число мелких фирм выросло во всех промышленно развитых странах, в которых стало все больше наемных работников.
Единицей измерения в административно-командной системе является не фирма, а предприятие, т.е. объект, подчиненный скорее техническим, чем экономическим законам. Понятое таким образом предприятие делает ненужным фигуру предпринимателя как субъекта творческих экономических решений. Предприниматель – это то лицо, которое функционирует вне самого производства: сначала вы- двигает перспективную экономическую идею, впоследствии воплощаемую техническими средствами в продукт, затем организует встречу готовой продукции с потребителем. В начальной стадии он скорее интуитивно, чем формально-логически предвосхищает волю потребителя; в конечной – вступает в непосредственный диалог с ним, одновременно убеждая его, воздействуя на него, манипулируя им и даже провоцируя его.
В данном пункте неоконсервативная модель расходится с кейнсианской, классической, марксистской. Марксистская (да и классическая) модель в большей степени выступает как «экономика производителя». Если потребитель по своим интересам является сторонником открытого, свободного общества, то производитель естественным образом склоняется к монополизму и протекционизму. Различные виды государственной собственности, явной или скрытой, предполагают большую зависимость от бюджета, чем от соревновательности рынка и открывают дорогу расширению производства как самоцели. Производители, избавленные от контроля потребителя, превращаются в своего рода «закрытый клуб», преследующий свой корпоративный интерес, противостоящий интересам общества. Марксистская модель связывала с частной собственностью диктат предпринимателей по отношению к наемным работникам, но не видела вытекающего из нее диктата потребителя по отношению к производителю. Если речь идет о частной собственности, в особенности мелкой и средней, то лица, представляющие ее, являются выразителями массовой потребительской воли. Поскольку они зависят от рыночного спроса, то, только угождая потребителю, они могут выжить в конкурентной борьбе.
Кейнсианская теория в одном пункте похожа на марксистскую экономическую теорию: подобно тому, как марксистская модель вносит в массовое сознание передовую идеологию, так и кейнсианская модель вносит в него новые потребности. Дж. Гэлбрейт оценил эту ситуацию так: «Регулирование спроса и управление им, по сути дела, является обширной и быстро растущей отраслью экономической деятельности, она охватывает громадную систему средств информации, почти всю рекламу, многочисленные прикладные исследования и многое другое <…> Если говорить более определенно, то она управляет теми, кто покупает товары» [3, с. 87].
В рамках неоконсерватизма созрело теоретическое обоснование суверенитета потребителя, получившее название «теории рациональных ожиданий» [5, с. 79]. Нарушение суверенитета и прав потребителей в форме либо прямого пренебрежения его интересами в административно-командной экономике, либо эксплуатации его спровоцированных потребностей порождает экономических паразитов типа «производство ради производства» в марксистской модели или «производство ради потребления» в технократических моделях.
Неоконсервативная теория оценивает историю XX в. как встречу двух альтернатив: производительной и перераспределительной. Выбор той или иной модели зависит от экономической подсистемы общества и ее эффективности и, соответственно, от общественно-политической ситуации. Экономически самодеятельные социальные группы, связанные с производительными общественными функциями, непосредственно не нуждались в политической организации, а социальные слои, не умевшие и не желавшие профессионально работать, вынуждены были в качестве компенсации развивать искусство политической борьбы. Наряду с экономическим рынком возник достаточно мощный политический рынок. В погоне за голосами избирателей политические демагоги выдвигают все новые и новые идеи в области расширения различных дотаций, пособий, льгот, привилегий и т.п. Часто эти термины используются в разных значениях в одном контексте, вводя в заблуждение большие социальные группы в обществе. Чем радикальнее социальные призывы политических популистов, тем больше голосов на выборах они рассчитывают получить и тем большим инфляционным эффектом это грозит экономике в случае реального осуществления таких призывов. В инфляции исследователи-неоконсерваторы видели предпосылку гражданской войны, которую ведут против собственников и экономически самостоятельных групп населения те, кто привык жить за счет общества. Не случайно в конце XX в. термин инфляция все чаще используется как категория политическая, а не чисто экономическая.
Неоконсерваторы указали на новую социально-профессиональную структуру общества: с одной стороны – все слои, входящие в гражданское общество, занимающиеся производительной деятельностью, живущие самостоятельно; с другой – слои, образующие современный политический аппарат власти, живущие не самодеятельно, а за счет растущих государственных изъятий из доходов первых слоев. Интересно отметить, что предприниматели как составная часть гражданского общества относятся к «эксплуатируемому народу», которому противостоят государство и все, кто с ним связан. Растущее вмешательство государства в экономическую жизнь, расширение всякого рода бюрократических организаций – это не просто противостояние, а часто и подавление гражданской инициативы. Предпринимательская инициатива, как следует из неоконсервативной теории, – важнейший компонент гражданской инициативы, одна из главных форм самодеятельности в рамках гражданского общества.
Не случайно в промышленно развитых странах на протяжении второй половины XX в. мелкий предприниматель представляется национальным героем, бросающим вызов не только крупным корпорациям, но и самому государству. Действуя в условиях разделения экономической и политической власти, он выступает как полномочный представитель гражданского общества, удовлетворяющего свои потребности на основе свободной, неподотчетной государству самодеятельности. Неоконсерваторы утверждают, что предпринимательская деятельность стала делом большинства, а не меньшинства народа.
Таким образом, принципы неоконсервативной теории можно сформулировать следующим образом:
-
– резкое сокращение налогов, переход от государственных инвестиций к частным;
-
– антибюрократическая реформа, сокращение государственных чиновников всех уровней, а соответственно, сокращение расходов на их содержание;
-
– монетаризм, т.е. политика «дорогих денег»; выдача ссуд, кредитов под высокий банковский процент (если банковский процент низкий, появляется много дилетантов, желающих поживиться за чужой счет; при высоком банковском проценте кредиты будут брать люди ответственные, понимающие, чем грозит им неудачное вложение и использование взятого кредита);
-
– сокращение различных социальных пособий (целесообразнее выплаты высоких пособий создание новых рабочих мест, финансирование профессиональной переподготовки работников, сокращение вмешательства государства в экономическую сферу).
«Философия предложения» неоконсервативной теории способствовала созданию в промышленно развитых странах рыночной экономики как формы гражданской экономической самодеятельности, не контролируемой, а охраняемой государством.
Анализируя сложившуюся в конце XX – начале XXI в. ситуацию, исследователи обратили внимание на ряд затруднительных положений в развитии как отдельных обществ, так и мирового сообщества в целом. Демографический фактор оказывает серьезное воздействие на мировую экономику: с одной стороны, быстрый прирост населения стимулирует экономическое развитие, придает обществу динамизм; с другой – демографическая экспансия усиливает давление на ресурсы, что ограничивает возможности экономического роста, особенно в развивающихся странах. «Демографические инвестиции», прежде всего в здравоохранение, образование, инфраструктуру, необходимые для поддержания достигнутого уровня жизни, вступают в конкуренцию с производительными инвестициями, позволяющими увеличить объем имеющихся ресурсов. По оценкам ООН, прирост населения на 2,5% требует выделения на эти инвестиции 5–12% национального дохода – этот показатель превышает современную норму сбережений в большинстве стран мира [1].
Демографический фактор приводит к усилению геополитической напряженности (в частности, между Севером и Югом). По данным ЮНЕСКО, на каждого рожденного европейца приходится 13 рожденных африканцев. В многонациональных, многоконфессиональных странах обостряются национальные отношения. Осложняются взаимоотношения поколений, а также проблемы, связанные с урбанизацией, поскольку перенаселенные города стали центрами политических, религиозных, расовых и т.д. столкновений.
С демографическим фактором непосредственно связаны вопросы снабжения населения продовольствием. Аграрная политика, проводимая в промышленно развитых и развивающихся странах, базируется на противоположных подходах. Протекционистская аграрная политика промышленно развитых стран нарушает принцип сравнительных преимуществ, порождая сельскохозяйственные излишки у себя и острую нехватку продовольствия в развивающихся странах. Рост сельскохозяйственного производства – это необходимое, но недостаточное условие обеспечения продовольствием, поскольку при этом следует решить многочисленные вопросы распределения, международного обмена, пошлин, налогов и т.д.
Анализируя вопросы использования сырьевых и энергетических ресурсов, исследователи отмечают, что спрос на традиционные виды сырья будут уменьшаться. В то же время возрастет спрос на элементы, применение которых связано с внедрением новых достижений науки, опирающихся в первую очередь на нанотехнологии.
Большинство экономичеких моделей в рамках той или иной концепции основано на принципе равноправной взаимозависимости стран, тогда как в действительности в мировом сообществе одни страны обладают большими возможностями, чем другие. Первенство США утвердилось в трех основных сферах: в международной валютной системе, международной торговле, в защите принципов рыночной экономики. Однако сегодня позиция США как лидера мировой экономики не так прочна. Связано это в первую очередь с тем, что на данную роль претендуют Европейский Союз, страны Тихоокеанского региона, Китай.
Экономические отношения между Востоком и Западом всегда играли ведущую роль, но не менее значимы отношения между Севером и Югом, прежде всего потому, что проблем, требующих немедленного решения, здесь гораздо больше. Осуществляемые в большинстве развивающихся стран модели развития принесли им разрушительные результаты. Проявилось это в росте внешней задолженности, обострении демографических, экологических, социокультурных проблем. Хотя определенная ответственность за такое положение лежит на самих развивающихся странах, не следует снимать ответственность и с развитых стран, многие из которых были колониальными державами, разрушавшими свои колонии и после обретения ими независимости. В настоящее время не найдено адекватных мер улучшения положения в развивающихся странах, и многие исследователи пессимистично оценивают перспективы их будущего развития.
Современное состояние экономических моделей развития можно объяснить действием:
-
– конъюнктурных факторов (совпадение таких отдельных кризисов, как повышение цен на нефть, кризис международной валютной системы и т.п.);
-
– макроэкономических факторов (нарушение основных пропорций в экономике);
-
– факторов исторического характера, знаменующих переход от одних способов регулирования экономики к другим;
-
– факторов циклического характера (интерпретация кризиса как нисходящей фазы долгосрочного цикла).
Сегодня ведется активный поиск новых инструментов регулирования социально-экономическим процессом. В первую очередь это связано с тем, что новые технологии затрагивают сферы как производства новых товаров и услуг, так и их использования. Перспективы экономики прежде всего зависят от возможностей и мощностей оборудования и инфрастуктуры и ориентируются на их потенциальные изменения. Многие научные разработки составляют весьма основательную угрозу для существующей структуры производства и распределения прибылей, поэтому проблемы охраны интеллектуальной собственности и моральной ответственности выступают необходимыми составными элементами технико-технологического параметра развития экономики. К тому же, конкуренция в этой сфере является наиболее жесткой: тот, кто умеет быстрее, дешевле и качественнее производить продукцию, используя новейшие технологии, выигрывает соревнование. Все остальные остаются далеко позади и, вполне возможно, со временем обанкротятся.
Для того чтобы социальные завоевания были сохранены и уровень социальных пособий оставался высоким, необходимо расширять занятость, т.к. только общество с высокой занятостью может обеспечить высокий уровень социального обеспечения. Для создания общества с высокой занятостью следует поддерживать уровень безработицы максимум до 5%; использовать труд безработных, которые официально не регистрируются, и лиц, вышедших на льготную пенсию; постоянно создавать дополнительные рабочие места и вести их широкую рекламу.
Для решения этих задач необходимо привести в соответствие модель социального обеспечения и оплаты труда с макроэкономической политикой. Политика роста занятости должна сопровождаться сокращением издержек системы социального обеспечения. Социоэкономическая модель должна обязательно содержать динамичный элемент, позволяющий выйти из состояния низкой занятости и продемонстрировать способность эффективного, поступательного развития, несмотря на существующие препятствия – экономическое отставание развивающихся стран, экологические проблемы, социокультурные, угрозы национальной и общемировой безопасности и т.д. Важно понимать эти проблемы и в конкретной ситуации принимать адекватные меры как внутри отдельных обществ, так и в мировом сообществе. Эти же процессы характерны для современной России. Многое из того, что делается для изменения ситуации, соответствует базовым принципам социально-экономического развития общества. Важно умело использовать общие принципы в конкретной национально-культурной российской действительности.
Список литературы Философия неоконсерватизма: опыт прошедшего столетия и его современное понимание
- Бассетти П. Плюрализм в экономике и развитие общества//Мировая экономика и международные отношения. 1990. №12.
- Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. М., 1979.
- Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М., 1969.
- Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
- Пияшева Л.И., Пинскер Б.С. Экономический неоконсерватизм: теория и международная практика. М., 1988.
- Радикальная экономическая реформа: истоки, проблемы, решения. М., 1990.
- Робинсон Дж. Второй кризис экономической теории//Мировая экономика и международные отношения. 1973. №6.
- Ромрозер Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. М., 1996.
- Сирота Н.М. Современные политические идеологии. СПб., 1995.
- Тьюгендхэт К., Гамильтон А. Нефть. Самый большой бизнес. М., 1978.
- Управление -это наука и искусство/А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор [и др.]. М., 1992.
- Этика добра и общая экономическая теория. Интеллектуальный вызов Дж.М. Кейнса//Общественные науки и современность. 1993. №6.
- Ядов В.А. Отношение к труду: концептуальная модель и реальные тенденции//Социологические исследования. 1983. №3.