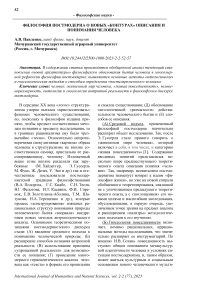Философия постмодерна о новых «контурах» описания и понимания человека
Автор: Павленко А.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2-2 (77), 2023 года.
Бесплатный доступ
В содержании статьи производится обобщенный анализ тенденций становления «новой архитектуры» философского обоснования бытия человека в многомерной рефлексии философии постмодерна; выявляются основные аспекты онтологических и гносеологических подходов к способам определения «постсовременного» человека.
Человек, жизненный мир человека, «живая повседневность», челове-коразмерность, онтология и гносеология антропной реальности в философском дискурсе постмодерна
Короткий адрес: https://sciup.org/170198185
IDR: 170198185 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-2-2-52-57
Текст научной статьи Философия постмодерна о новых «контурах» описания и понимания человека
В середине XX века «логос» структурализма упорно пытался «кристаллизовать» феномен человеческого существования, но, поскольку в философии издавна принято, чтобы предмет соответствовал методам познания и предмету исследования, то в границах рационализма ему было чрезвычайно «тесно». Относительно непротиворечивая спекулятивная «картина» образа человека в структурализме не вполне соответствовала самому, пристально ее рассматривающему, человеку. Изложенный выше тезис вполне разделяли как зарубежные (М. Хайдеггер, Э. Гуссерль М. Фуко, Ж. Делез, У. Эко и др.) так и отечественные последователи постмодернистской традиции философствования (В.А. Подорога, Г.С. Кнабе, С.Н. Тесля, В.Г. Федотова, И.Т. Касавин, Ф.И. Гиренок, Е.В. Золотухина-Аболина, Т.М. Шатунова, Н.А. Терещенко и др.), которые процесс «конструирования» изящных рациональных структур понимания природы человеческого бытия «взорвали» внедрением новых методов антропологического анализа. Основными теоретическими позициями постмодернистского дискурса стали: (А) введение средового подхода к пониманию человеческой природы; (Б) расширение способов познания антропной реальности; (В) использование принципа «упрощенной реальности» для возможности ее познания; (Г) проведение многомерного герменевтического анализа человека как «текста» в формах его проявления и смылов существования; (Д) обоснование онтологической «размытости» действительности человеческого бытия и (Е) способов ее описания.
-
(А) Средовой подход , примененный философией постмодерна значительно расширил объект исследования. Так, после Э. Гуссерля стало принято говорить о «жизненном мире человека», который включает в себя, в том числе, и категорию «живая повседневность» [1]. Содержание вводимых понятий представлялся несколько шире предшествующего теоретического опыта описания понятия «человек». Так, например, неовитализм постмодернизма знаменует возврат к идеям «философии жизни», но уже на новой спирали обобщенного теоретизирования, связанной не с уничтожением предыдущего теоретического опыта, а с «поглощением» его новыми целями и масштабами исследования, обусловленными, в первую очередь, увеличением точек зрения на предмет анализа и расширением «палитры» методологических подходов к его изучению.
(Б) Гносеология повседневности включает, помимо рациональных, иррациональные методы исследования, что значительно расширяет ее инструментарий. По мнению И.В. Сохань повседневность выступает общим основанием метакультур-ной идентичности человека в условиях ситуации постмодернизма, и, таким образом, может явиться культурным и социальным основанием нового человеческого мульти- культурного сообществах [2]. Постмодернизм делает попытку полной реконструкцию мира человека, изменяя при этом и саму природу философствования [3]. Постмодернизм теоретически оправдывает парадоксальность существования жизни вообще и жизни человека, в частности, решая эту проблему приемом мультиплицирования разнонаправленных тенденций процесса становления феномена человеческого в действительности. Концепция повседневности здесь изначально культуроцентрична и напрямую связана с телесностью (предметностью) человеческой жизнедеятельности [2].
-
(В) Принцип «упрощения реальности». Определение действительности через ее теоретическую «локализацию». Гносеологическая модель современной философии выделяет следующие элементы действительности: 1) действительность познающая (субъект); 2) познанная (знания, эпистемологические и методологические установки); 3) познаваемая (объ-ект/предмет). Признание объективным субъективного в человеке (интерсубьек-тивность) сделало теоретическое прочтение повседневного мира человека более приближенным к актуальной действительности.
Наше знание о мире есть результат коммуникаций, символического обмена, результат эпистемологических конвенций (А. Пуанкаре). Здесь на первый план выходит проблема пропозиций (высказываний) и их понимания. У. Эко признает, что метафоричность языка исследователя дает новые горизонты изучения и влечет за собой образование нового категориального аппарата (У. Эко: «метафоричность языка автора дает нам множество новых онтологий» [5, ст. 62]; «для понимания метафоры необходима новая категориальная организация» [5, ст. 65]) и возникают не только феноменологические, семиотические, но и герменевтические проблемы. Это объясняется попытками локального восприятия всей действительности человеком - отдельно - через:
-
1) разум/сознание (наличие в мире смысла, порядка; выявление конструктив-
- ного начала в мире с любым субъектом в качестве конструктора);
-
2) ощущения (предметность);
-
3) язык (коммуникативное, семиотическое пространство);
-
4) экзистенциальное ощущение бытия и т.д.;
-
5) формы проявленного бытия (феноменология) и т.д. или в любых компоновках этих тенденций.
Поэтому тема трагизма от осознания невозможности постижения всеобщего через локальные формы восприятия периодически встречается в различных постмодернистских дискурсах. Например, несмотря на явное стремление большинства представителей философской культуры постмодерна идти по «следам» предшественников и искать в локальных состояниях бытийственности «ключ» от принципов всей действительности. они периодически «соскальзывали»/«восходили» в/к «Ничто » (Г. Гегель, А. Бергсон, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и др.). Изначальная хаосомность бытия здесь представляется не только как конец, но и как потенциальное начало новых форм бытия.
(Г) Герменевтика текста и смысла. Человек как «текст». Понятие «текста» в понимании М. Бахтина, Ю. Кристевой, У. Эко, Р. Барта, Ж.Дерриды и др. требует большое пространство интерпретации читателем смысловых аспектов содержания высказывания автора. В этом контексте понимаемый язык не представляет собой онтологическое фундаментальное витгенштейновское начало, а видится лишь формой объективации смысла. Но, с другой стороны, язык сам может стать особой языковой (семиотической, коммуникативной) реальностью, способной стать инструментом рождения новых моделей смысла. Особую роль здесь может сыграть ирония , как способ дистанцирования от объекта исследования.
Использование герменевтического подхода при изучении текста заставляет исследователя ответить на вопросы: какова основная мысль автора?; что заставляет автора, переходить от одной мысли к другой?; какова истинная цель высказывания? В художественной литературе часто наблюдается стремление авторов помимо рациональной составляющей, поместить читателя в определенную художественную человекоразмерную эмоциональную атмосферу. Погружение читателя в нюансы психологических размышлений автора свойственно, как правило, художественной литературе. Философия, в некоторой степени, тоже использует этот прием.
Исходная антропная форма высказывания такова, что фонетически предложение – единица высказывания и физиологически равна объему воздуха, взятого на одном вдохе. На определенном этапе развития сознания человека, его мысль постепенно теряет прямую связь с дыханием и с физиологическими особенностями произношения. Так, в текстах Гомера, И. Канта, Г. Гегеля, В.С. Соловьева и др. мыслителей находим примеры предложений, превосходящих границы голосовых возможностей человека. Так образом возникают формы «внеголосового» существования мысли, функционирующие уже только по законам сознания. Расширенные («надчеловеческие») формы выражения мысли имеют основательную проработку в ритуальной мифологической/религиозной практике. Их задача, по мнению современных отечественных мыслителей, заключается в выходе за пределы человеко-размерности и связана соотнесением личностного сознания с «надчеловеческим» (божественным, абсолютным, сакральным) смыслом [6]. Каковы основания «текста» человеческого бытия? Бытия вообще?
(Д)Размытость онтологической картины действительности. В современной философии появляются попытки создания универсальной теории познания «всего» (С. Хокинг – физика [7]; Л. Витгенштейн – философия языка; Атен (Athene) – психология восприятия [8] и др.). Локализация содержания «всего» в одной лишь грани бытия видится попыткой упрощения действительности ради возможности ее измерения. В истории подобный подход встречался в различных формах мифологического и религиозного мировоззрения Древнего Востока, в позитивизме и экзистенциализме. Когда Лакан повествует об исключительно иллюзорной природе бы- тия (Ж. Лакан: «скажем, вслед за Раймоном де Соссюром, что мир субъекта является его собственной галлюцинацией» [9], понимаем, что обилие интерпретаций, к сожалению, не дает ему оснований для выведения сущностных оснований действительности.
Достижение любой локальной истины представляет процесс, связанный с определенными усилиями познания. Истина имеет «извлеченный», действенный характер (Ж. Деррида: « Смысл ни до, ни после акта [научной коммуникации]» ) [10, ст. 18]). Для адекватной передачи зна-ния/информации и определенных смыслов (что для философии первостепенно) возникает экзистенциальная и герменевтическая проблема, поскольку объемы интеллектуального опыта, структура мировоззрения, система аксиологических и психофизических особенностей у коммуниканта и реципиента разнятся. Практика «вживания», «проникновения», «постижения» замысла автора разрабатывалась в границах герменевтической традиции (В. Дильтей, М. Хайдеггер и др.). Постмодернизм полагает, что «ухваченная» истина может быть передана в процессе философского дискурса посредством использования гипертекста.
(Е) Метаязык описания природы современного человека. Проблема поиска соответствия языковой картины реальности самой действительности привела к формированию нового языка философии. Это явление известно как «метатекстуальность» [11]. Гипертекст призван максимально соединить автора и читателя научного сообщения (коммуниканта и реципиента философской коммуникации). Какова природа этого взаимного понимания в коммуникативном процессе познания? Она, на наш взгляд, заключается в расширении пространства смысловых сопряжений личного опыта реципиента и коммуниканта посредством семиотического пространства коммуникации, предполагающего инвариантность интерпретаций смыслов сообщений контрагентами коммуникативного акта. Но и здесь отмечается определенный гносеологический скепсис. Текст может как открыть, так и закрыть для человека истину (У. Эко: «Текст скрывает ту беспредельную часть мира, которая его не интересует, как бы покрывает его слоем штукатурки и предает забвению, заменяет наши представления о мире собственными исключительными представлениями о возможном универсуме так, что «с огромным вниманием и усилием ума» те отпечатываются и господствуют затем в нашем воображении» [5, ст. 91]), а наука о человеке превращается в своеобразную «войну интерпретаций». (У. Эко: «Истина становится тогда «подвижным воинством метафор, метонимий, антропоморфизмов», поэтически обработанных, а затем утвердившихся в знаниях; это «иллюзии, чья иллюзорная природа забыта»; монеты, на которых стерлось изображение, и которые воспринимаются только как металл; так что в итоге по взаимному согласию мы привыкаем лгать, сводя метафоры к схемам и понятиям. Результатом всего этого является пирамидальный порядок каст и степеней, законов и ограничений, выстроенный языком, огромный «римский колумбарий», кладбище созерцаний» [5, ст. 548]) Р. Барт приходит к обоснованию совсем радикальной точки зрения и доказывает невозможность «чего-бы то ни было выразить» [12, ст. 25], а У.Эко вполне аргументировано полагает, что только язык мистического ритуала способен многогранно отражать существующую действительность. (У. Эко: «Язык для экстатической каббалы – это универсум, структура же языка соответствует структуре реального мира. Таким образом, в отличие от западной философской традиции, точно так же, как в отличие от арабской и иудейской философской традиции, в каббале язык не репрезентирует мир, где означающее репрезентирует некую внелингвистическую реальность. Если Бог создал мир, произнося слова языка или буквы алфавита, то эти семиотические элементы являются не представлениями чего-то предшествующего их существованию, а формами, в которые отливаются элементы, образующие мир» [5, ст. 380]).
Так произошел прорыв в иное смысловое пространство философской антропологии постмодерна.
Изящная картина человека, нарисованная мыслителями Античности, продолженная авторами эпох Возрождения и Просвещения сменилась поразившей своей масштабностью интеллектуальных противоречий картиной, описанной представителями немецкой классической философии. Волюнтаристский подход трактовки образа человека как наивысшего представителя «третьей субстанции» философии жизни на рубеже XIX и ХХ веков скрылся за «вуалью иррациональных лабиринтов» экзистенциализма, феноменологии и герменевтики, а позже был естественным образом сменен блестящими рациональными конструкциями структурализма. Возвышенный («аполлоновский») образ человеческого бытия по естественным соображениям не мог соответствовать оригиналу и мог принадлежать только деонтологии. Ощущение необходимости приближения к актуальному описанию постсовременного человека заставило плеяду выдающихся философов эпохи постмодерна сменить одномерную форму «живописного произведения» множеством «карандашных набросков», сформированных совокупностью разнонаправленных философских дискурсов. Но самое важное – все эти «эскизы» – суть попытка объемного отражения противоречивого бытия человека. Создается ощущение, что некоторые авторы демонстрируют пренебрежение к академической манере письма, повторяя в этом отношении протестное поведение А. Шопе-гауэра. Их произведения либо представляют собой специфическую форму художественной литературы, а, иногда, публицистических заметок, сделанных «на коленке» в пику академическому стилю предшественников. Смысловой акцент таких произведений заметен уже в их названиях: «Разговор на проселочной дороге» (М. Хайдеггер); «Метафизический дневник» (Марсель); «О почтовой открытке от Сократа до Фрей да и не только» (Ж. Деррида) «Кукла и карлик» (С. Жижек) и др. Важно подчеркнуть, что именно все вместе они образуют некий объем смыслов, понятий, зачастую внешне противоречивых концептуальных подходов, связанных одной целью – воссоздание теоретической «архитектуры» человеческого бытия во всевозможных ее проявлениях.
Процесс создания философских изысканий, где человек может выявить в природе собственного бытия своеобразные «архитектурные ландшафты», еще не окончен. Разнообразные современные тенденции в науке (виртуализации человече- ского; «очеловечивания» внеантропной реальности; переход к глобальной многомерности как антропного/внеантропного мира, так и методологии философской рефлексии природы человеческого бытия и т.д.) приводят к новым стандартам понимания человека, новым горизонтам его становления. Философская рефлексия этого процесса представляется фундаментом для теоретически обоснованного анализа и прогнозирования возможных состояний человеческого бытия.
Список литературы Философия постмодерна о новых «контурах» описания и понимания человека
- Марковцева О.Ю. Повседневность как предмет социально-философского анализа/автореф. дис.... 09.00.11 - Социальная философия, УФА: ИГУ, 2003. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/povsednevnost-kak-predmet-sotsialno-filosofskogo-analiza (дата обращения 22.01.23).
- Сохань, И.В. Повседневность как универсальное основание человеческой культуры / автореф. дисс... - Томск: ТГУ, 1999. - 26 с.
- Делез, Ж. Ницше и философия. - М.: Ад Маргинем, 2003. - 392 с.
- Смирнов, А.В. Концептуализация повседневности: исторический и методологический аспекты / автореф. дисс. 24.00.01 - д.филос. наук. - СПб.: Из-во СПБГУ, 2013. -С. 20
- Эко, У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации / Пер. с итал. О.А. Поповой. - М.: Академический проект, 2016. - 559 с.
- Материалы круглого стола по проблемам современной отечественной герменевтики с В.В. Сербиненко и С.В. Роцинским в границах работы «Соловьевского семинара». -Иваново, 2001.
- Хокинг, С. Теория всего / С. Хокинг; пер. с англ. Е. В. Шимановская. - Москва: АСТ, 2018. - 160 с.
- Теория всего от Атен. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://yandex.ru/video/preview/5428249782306763937 (дата обращения: 22.01.23).
- Лакан, Ж. Символическое, Воображаемое и Реальное. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://bookap.info/clasik/lakan_imena_ottsa/gl3.shtm (дата обращения 22.01.23).
- Деррида, Ж. Письмо и различие / Пер. с франц. А. Гараджи, В. Лапицкого и С. Фокина. Сост. и общая ред. В. Лапицкого. - СПб: Академический проспект, 2000. -432 с.
- Балабин В.В. Метатекстуальность и интертекстуальность в исследовании дискурса // Вестник МГИМО. - 2008. - №2.
- Барт, Р. Избранные работы. Семиотика: Поэтика. Пер. с фр. / сост. Г.К. Косикова. -М.: Прогресс, 1989. - 616 с.