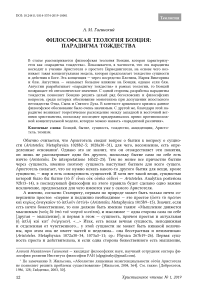Философская теология Боэция: парадигма тождества
Автор: Гагинский Алексей Михайлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 1 (84), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается философская теология Боэция, которая характеризу- ется как «парадигма тождества». Показывается, в частности, что эта парадигма восходит к учению Аристотеля о простоте Перводвигателя, на основе чего воз- никает такая концептуальная модель, которая предполагает тождество сущности и действия в Боге. Эта концепция - через посредство Плотина, Мария Викторина и блж. Августина - оказывает большое влияние на Боэция, однако если блж. Августин разрабатывает «парадигму тождества» в рамках теологии, то Боэций возвращает ей онтологическое значение. С одной стороны, разработка парадигмы тождества позволяет Боэцию решить целый ряд богословских и философских вопросов, среди которых обоснование монотеизма при допущении ипостасного нетождества Отца, Сына и Святого Духа. В контексте арианского кризиса данное философское обоснование было очень значимым. С другой же, благодаря этой па- радигме возникает теоретическое расхождение между западной и восточной вет- вями христианства, поскольку последнее придерживалось прямо противополож- ной концептуальной модели, которую можно назвать «парадигмой различия»
Боэций, бытие, сущность, тождество, акциденции, аристотель, томизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140246665
IDR: 140246665 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10001
Текст научной статьи Философская теология Боэция: парадигма тождества
Обычно считается, что Аристотель сводит вопрос о бытии к вопросу о сущности ( Aristoteles. Metaphysica 1028b2–5; 1028а30–31), для чего, несомненно, есть определенные основания1. Однако это не значит, что он отождествляет эти понятия, он лишь не рассматривает одно без другого, поскольку бытие само по себе есть ничто ( Aristoteles . De interpretatione 16b22–25). Тем не менее все причастно бытию через сущность, именно поэтому сущность выступает бытием для всего сущего. Аристотель полагает, что не нужно искать какого-то другого бытия для вещи, кроме сущности, — мир и есть совокупность сущностей. И хотя нет такой вещи, сущностью которой было бы бытие (τὸ δ’ εἶναι οὐκ οὐσία οὐδενί — Aristoteles . Analytica posteriora 92b13–14), в последующей философии из этого правила будет сделано одно важное исключение, предпосылки для чего имеются уже у самого Аристотеля.
А именно, согласно Стагириту, первым по природе может быть только нечто совершенно простое: «первое и подлинно необходимое — это простое (ὥστε τὸ πρῶτον καὶ κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἁπλοῦν ἐστίν)» ( Aristoteles . Metaphysica 1015b9–15). Значит, если есть нечто божественное, то оно должно быть именно таким: «Мышление движется мыслимым (νοῦς δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ κινεῖται), и мыслимое — одна сторона сама по себе [другая — мышление]; и первая в этом — сущность, причем простая и актуальная (ἡ ἁπλῆ καὶ κατ’ ἐνέργειαν). <…> Итак, есть некая вечная сущность, неподвижная и отделенная от чувственного… у этой сущности не может быть никакой величины, при этом она не имеет частей и неделима… она бесстрастная и неизменная» ( Aristoteles . Metaphysica 1072a30–34, 1073a3–11; ср.: Physica 267b19–26). Первая сущность проста и действительна, и если одна сторона божественного есть мышление,
а другая — мыслимое, то, будучи простым, такой бог «мыслит самого себя, если он лучшее, и его мышление есть мышление мышления (ἡ νόησις νοήσεως νόησις)» ( Aristoteles. Metaphysica1074b33–35). А поскольку «для бестелесного мыслящее и мыслимое — одно и то же» ( Aristoteles. De anima 430a2–3), сущность и действие в божественном совпадают, ведь сущность мышления состоит в его действии — в том, чтобы мыслить. Действие как действительность (ἐνέργεια) есть одно из значений бытия по Аристотелю, поэтому тождество сущности и действия в Боге будет осмысляться в последующей традиции как тождество сущности и бытия, ибо последнее мыслится как некий акт, чистый акт бытия. Следовательно, τὸ δ’ εἶναι οὐκ οὐσία οὐδενί — бытие ни для чего не есть сущность… ни для чего, кроме Бога.
Многие идеи Аристотеля нашли своеобразное преломление в философии Плотина, который удерживает тезис о тождестве мышления и бытия в умопостигаемом, т. е. в ипостаси Ума, но дополняет его критикой аристотелевского категориального аппарата. Плотин утверждает, что категории соответствуют чувственно-восприни-маемому миру, однако совершенно неприменимы к умопостигаемому (см.: Plotinus. Enneades VI.1–3), где вообще нет различия между сущностью и акциденциями, ибо там «все — сущность (τὰ ἐκεῖ πάντα οὐσία)», в том числе и бытие ( Plotinus. Enneades II.6.1.7–9, 45–46). Так возникает и, под влиянием неоплатонизма, широко распространяется концепция, согласно которой умопостигаемое тождественно своим предикатам, ибо мыслящее и мыслимое — тождественны.
В латинскую патристику эти идеи попадают благодаря Марию Викторину, который без достаточной критической рефлексии переносит характеристики аристот-елевско-плотиновского Ума в христианское богословие2. Вот несколько характерных примеров, встречающихся в разных местах его трактата «Против Ария»3: «Ведь у Бога одно и то же есть и сила, и сущность, и божество, и действие, ибо все одно и одно простое (Dei enim idem ipsum est et potentia et substantia et divinitas et actio; omnia enim unum et unum simplex)» ( Marius Victorinus. Adversus Arium I.9.17–19); «бытие и действие там едино и просто (unum enim et simplex ibi et esse et operari)» (Adversus Arium I.20.10); «следовательно, существует одна сила, то есть одна сущность; ибо сила в тамошнем — это сущность, а не так, что одно — сила, а другое — сущность (enim aliud potentia, aliud substantia)» (Adversus Arium I.37.21–23). «Ведь бытие для Него есть Его сущность (esse enim illi substantia sua), не та, что известна нам, но Он Сам, поскольку Он есть само бытие (quod est ipsum esse), есть Сам по себе; не из сущности, но сама сущность (non ex substantia, sed ipsa substantia)» (Adversus Arium II.1.25– 28). Утверждения такого рода, демонстрирующие тождество сущности и предикатов в Боге, без труда можно было бы умножить. Однако в данном случае достаточно обратить внимание на то, что Марий Викторин, опираясь на античную философию, переносит целый комплекс идей в христианское богословие. В частности, он полагает, что Бог абсолютно прост, вследствие чего Его действия тождественны Его сущности; равным образом и другие Божественные атрибуты мыслятся не как то, что принадлежит Божественной сущности, а как она сама. Следует заметить, что данные постулаты не связаны напрямую с библейским текстом или предшествующей патристической традицией, но целиком и полностью заимствованы из неоплатонизма.
Возможно, эта концепция просто канула бы в лету, если бы в какой-то период своей жизни текстами Викторина не заинтересовался блж. Августин. Последний был достаточно вдумчивым читателем, а потому от него не укрылось, пожалуй, наиболее важное положение философской теологии Викторина: Божественное должно мыслиться абсолютно простым, ибо для неоплатонизма простота является важнейшей характеристикой первоначала. Как следствие, блж. Августин формулирует тезис, который станет краеугольным камнем всей последующей латинской патристики и схоластики: в Боге нет различия между «быть» и «иметь», что Бог имеет, то Он и есть4. Однако законченную форму эта концепция обретает у Боэция, который не только прекрасно знал античные философские тексты, но и опирался на наследие блж. Августина.
Как известно, краткие философско-богословские трактаты Боэция (Opuscula sacra) оказали большое влияние на последующую латинскую традицию. Эти трактаты посвящены разным темам, однако объединены общими теоретическими установками автора, который развивает свою аргументацию в рамках концепции абсолютной Божественной простоты, или парадигмы тождества, существенно углубляя ее в плане онтологии. Можно даже сказать, что именно у Боэция теологическая модель блж. Августина впервые становится универсальной парадигмой, уже не имеющей непосредственного отношения к триадологии. Тем не менее исходный посыл Боэций заимствует ex beati Augustini scriptis5. В частности, Боэций стремится разъяснить учение о Святой Троице с помощью категориального аппарата Аристотеля, что позволяет ему с небывалой теоретической глубиной обосновать парадигму тождества, характерную для последующего латинского богословия6.
Боэций пишет, что ариане понимают Троицу как некое множество, однако последнее имеется только там, где есть какая-либо инаковость, поскольку вещи различаются по роду, виду или числу, причем различие по числу обусловлено акциденциями. Так, вид людей принадлежит роду живых существ, следовательно, люди различаются по числу, а не по роду или виду. Например, они находятся в разных местах, поэтому мы говорим о множестве людей. Однако следует ли из этого, что понятие Троицы указывает на трех богов? Боэций отвечает отрицательно, потому что акциденции, которые задают множественность в тварном сущем, совсем иначе присутствуют в сущности нетварной. Точнее говоря, в соответствии с мыслью Плотина, акциденции присутствуют лишь в материальном сущем, тогда как к умопостигаемому они неприменимы.
В самом деле, Божественная сущность есть форма без материи, согласно Боэцию, поэтому она едина и есть то, что есть (est id quod est), тогда как все прочее не суть то, что оно суть — reliqua enim non sunt id quod sunt ( Boethius. De Sancta Trinitate, 170.92–94). Причина этого в том, что всякая вещь получает бытие от своих частей (ex partibus suis), поскольку она есть нечто целое и сложное. Так, человек есть душа и тело, а не что-то одно из этого, следовательно, он не есть то, что он есть (non est id quod est). Однако Бог — существо простое и не составленное из элементов, поэтому Он поистине есть то, что есть (vere est id quod est), в Нем нет ничего иного, кроме того, что Он есть (nullum in eo aliud praeterquam id quod est) ( Boethius. De Sancta Trinitate, 170.99–104). Бог есть истинная форма (vere forma), которая есть само бытие и из которой бытие (esse ipsum est et ex qua esse) ( Boethius. De Sancta Trinitate, 169.81–83). Поэтому Боэций говорит, вслед за неоплатониками и блж. Августином, что в Боге сущность и акциденции тождественны, тогда как во всем остальном они различны. Отсюда следует вывод, что аристотелевские категории (praedicamenta) сказываются в равной степени обо всем… кроме Бога. К примеру, категория сущности сказывается о Боге не в собственном смысле, как если бы Его сущность была одной среди прочих, но указывает на то, что выше сущности (ultra substantiam) — нечто такое, где сущность и акциденции совпадают. «Так, например, когда мы говорим „сущность“ (о человеке или Боге), мы говорим это так, будто то, о чем мы это говорим, само есть сущность: сущность „человек“ или „Бог“. Однако есть разница: ведь человек не есть целиком только человек как таковой, а потому не есть и [только] сущность; тем, что он есть, он обязан также и другим [свойствам], отличным от человека как такового. Бог же, напротив, есть именно сам Бог как таковой, ведь в Нем нет ничего, кроме того, что Он есть, и поэтому Он есть сам Бог (Deus vero hoc ipsum Deus est; nihil enim aliud est nisi quod est, ac per hoc ipsum D eus est)» ( Boethius . De Sancta Trinitate, 174.201–207)7.
Итак, сущность и акциденции во всем сущем различны, тогда как в Боге они совпадают: например, бытие и справедливость для Него — одно и то же (idem est esse Deo quod iusto). В конечном итоге Боэций приходит к выводу о «неразличимости сущности и действия (indifferentia vel substantiae vel operationis)» в Боге ( Boethius. De Sancta Trinitate, 180.337–339). Единственное исключение, которое вслед за блж. Августином удерживает Боэций, — это категория отношения, с помощью которой обнаруживаются различия между ипостасями Святой Троицы8.
Данная концепция восходит к Марию Викторину и блж. Августину, а через них — к Аристотелю и Плотину, и именно она позволяет Боэцию сформулировать учение о Троице на философском языке и таким образом дать логически обоснованный, непротиворечивый ответ на один из самых сложных богословских вопросов: каким образом Троица есть не три божества, а единый Бог. И хотя данная тема сугубо богословская, можно заметить, что Боэций не обращается к Священному Писанию и опирается исключительно на чистый разум (simplici intellectu — Boethius. De Sancta Trinitate, 180.335)9, в чем находит продолжение рационалистическая тенденция латинской патристики, берущая начало в античной философской теологии. Эта тенденция еще более усиливается в трактате «О седмицах»10.
Если у блж. Августина речь шла прежде всего о теологии, которая впоследствии получит название metaphysica specialis, то у Боэция парадигма тождества переносится в область онтологии и уже соответствует metaphysica generalis. В трактате «О седмицах» он углубляет концепцию тождества сущности и акциденций в Боге, но при этом, как справедливо отмечает Дж. Маренбон, данный трактат «явным образом не содержит ничего христианского… ввиду особой проблематики, которой он посвящен, он не привлекает собственно христианское учение, его язык нейтрален» [Marenbon, 2003, 87]. Вероятно, Боэций сознательно стремился к объективности, к тому, чтобы сделать теологию строгой наукой, в которой есть свои аксиомы и правила вывода. Неслучайно трактат «О седмицах» начинается с определения аксиом, которые принадлежат к области онтологии, однако у Боэция они служат предуведомлением к выводам теологического характера (впрочем, онтология и теология уже у Аристотеля выступали как нечто единое — как онто-теология). Эти аксиомы настолько важны для европейской философии, что их следует специально рассмотреть.
Боэций пишет: «2. Бытие (esse) и то-что-есть (id quod est) — различны, ибо само бытие еще не есть (ipsum enim esse nondum est), а то-что-есть — существует и состоит (est atque consistit), приняв форму бытия (essendi forma). 3. То-что-есть может прича-ствовать чему-либо, но само бытие (ipsum esse) никоим образом ничему не причастно. Ибо причастность появляется тогда, когда что-то уже есть, а есть что-либо тогда, когда оно восприняло бытие. 4. То-что-есть может иметь что-либо помимо того, что есть оно само, а само бытие не имеет в себе ничего, добавленного извне. 5. Просто быть чем-то и быть чем-то в том-что-есть (tantum esse aliquid et esse aliquid in eo quod est) — не одно и то же; ибо последнее обозначает акциденции, а первое — субстанцию. 6. Все, что причастно бытию (eo quod est esse) чтобы быть11, причастно чему-либо иному, чтобы быть чем-то. Поэтому то-что-есть причастно бытию, чтобы быть (id quod est participat eo quod est esse, ut sit); есть же оно, чтобы причаствовать чему-либо другому. 7. Все простое обладает единством своего бытия и того, что оно есть. 8. У всего сложного одно — бытие, а другое — то, что оно есть» (Boethius. Quomodo substantiae, 187–188.26–43).
Этот пассаж принадлежит к одним из самых ценных страниц средневековой, а лучше сказать — мировой философии. Здесь представлена базовая онтологическая модель, заимствованная у греков и воспринятая последующей латинской традицией. Вслед за Викторином, у которого данное различие также присутствует, Боэций отличает бытие и сущее, а точнее, бытие (esse), то-что-есть (id quod est) и акциденции (accidens) — различие, которое до настоящего времени вызывает сложности у исследо-вателей12. Так, Х. Стюарт и Э. Рэнд полагают, что esse и id quod est у Боэция соответствуют τὸ τί ἐστι и τόδε τι Аристотеля [Stewart, Rand, 1968, 40]13. Такая интерпретация обусловлена ошибочным, с моей точки зрения, но весьма распространенным пониманием онтологии Аристотеля, согласно которому бытие есть не что иное, как сущность. И хотя Стагирит действительно сводит бытие к сущности, как отмечалось выше, он тем не менее их не отождествляет.
Понятие τὸ τί ἐστι у Аристотеля соответствует «сущности» и близко по значению τὸ τί ἦν εἶναι, т. е. «чтойности» какой-либо вещи, фиксируя семантический аспект понятия «сущность» (τὸ τί ἐστι — «чтó-есть», τὸ τί ἦν εἶναι — «чтойность»). В том случае, когда выражение τὸ τί ἐστι употребляется синонимично τὸ τί ἦν εἶναι, оно означает чтойность, т. е. указывает на значение какого-либо предмета, в противном случае оно выступает просто как синоним сущности (οὐσία). В обоих случаях τὸ τί ἐστι не соответствует (1) ни тому, что Аристотель говорит о многозначности бытия (τὸ ὄν, τὸ εἶναι), которое сказывается обо всем, тогда как сущность (τὸ τί ἐστι, οὐσία) не сказывается ни о чем, (2) ни тому, что в данном случае под термином esse понимает Боэций, противопоставляя бытие и то-что-есть (=сущность)14.
Понятие τόδε τι у Аристотеля соответствует тому, что он называет первой сущностью, т. е. конкретной вещью (например, вот этот человек, Каллий или Сократ), однако между τὸ τί ἐστι и τόδε τι у Аристотеля нет такого различия, какое между esse и id quod est проводит Боэций. Несомненно, τὸ τί ἐστι и τόδε τι различаются, однако оба понятия фиксируют различные аспекты сущности (первое — ее значение, второе — наличие)15, тогда как Боэций противопоставляет сущность и бытие, причем если бытие — nondum est (еще не есть), то сущность — est atque consistit (существует и из чего-то состоит). Очевидно, что о τόδε τι нельзя сказать nondum est, ибо это значило бы, что Каллий или Сократ «еще не есть», тогда как с точки зрения Аристотеля они как раз и указывают на то первое, что существует.
Исследователи отмечают, что выражение id quod est esse в правиле 6 тождественно τὸ τί ἦν εἶναι Аристотеля [Stewart, Rand, 1968, 42; Боэций, 1990, 300, прим. 21]. Однако из контекста следует, что Боэций употребляет его не в значении «чтойности», т. е.
семантического аспекта сущности по Аристотелю, но в противоположном значении — бытия, которое противопоставляется сущности в правилах 2–4, вследствие чего eo quod est esse означает просто — бытие. Как отмечает сам Боэций в другом месте, «esse и subsistere мы понимаем как εἶναι и οὐσιῶσθαι» ( Boethius. Contra Eutychen, 88.56). Если же переводить id quod est esse как «чтойность», поскольку τὸ τί ἦν εἶναι у Аристотеля означает именно это, то получится бессмысленная фраза «то-что-есть причастно чтойности» (id quod est participat eo quod est esse), ведь «то-что-есть» равнозначно «чтойности», а значит, речь о причастности здесь идти не может. Вследствие этого следует допустить, что под id quod est esse Боэций скорее имел в виду общее понятие бытия, а не чтойности. Как полагает Л. де Рийк, с помощью выражения participat eo quod est esse Боэций передает греческое μετέχει τοῦ εἶναι, т. е. «причаствует бытию», «где латинская перифраза нужна для того, чтобы избежать варварского essendo» [Rijk, 1988, 20–21]. Тем не менее остается не вполне ясным, почему в данном случае Боэций использует такое выражение (id quod est esse), которое неравнозначно по смыслу его греческому эквиваленту (τὸ τί ἦν εἶναι).
Боэций говорит о том, что бытие ничему не причаствует, тогда как сущность причаствует бытию, а акциденции причаствуют сущности и лишь через нее — бытию, т. е. всякая сущность причастна бытию, чтобы быть, и акциденциям, чтобы быть чем-то, ибо последние привносят в сущность определенность, родовидовые отличия. Вследствие этого «то-что-есть — существует и состоит (est atque consistit), приняв форму бытия»: существует — по причастию к бытию, состоит из чего-то — из-за причастия акциденций. Поскольку бытие «не имеет в себе ничего, добавленного извне», т. е. не привносит с собой ничего иного, кроме бытийности, оно не может сделать сущность чем-то определенным, отличным от всего прочего. Однако всякая сущность есть определенное нечто, поэтому сущность причастна не только бытию, но и акциденциям, т. е. «чему-либо иному, чтобы быть чем-то».
Ввиду этих соображений, я полагаю, нельзя согласиться с интерпретацией Х. Стюарта и Э. Рэнда и теми аналогами терминологии Аристотеля, которые они предлагают. Их главная ошибка состоит в том, что esse Боэция соотносится не с τὸ τί ἐστι Аристотеля, а с τὸ εἶναι, бытием, которое отлично от сущности и акциденций, более того, с бытием, которое отлично от сущего (omne quod est из правила 6 есть не что иное, как сущее вообще), — различие, которое только намечается у Аристотеля, однако впервые проводится в анонимном «Комментарии на „Парменид“» Платона16, который был известен Марию Викторину и мог быть знаком Боэцию [Hadot, 1968].
Понятие id quod est у Боэция противопоставляется esse и accidens, т. е. id quod est означает то-что-есть, сущность , которая отлична от бытия и не тождественна акциденциям. Правила 2–4 касаются разграничения бытия и сущности; правила 5–6 — разграничения сущности и акциденций. В правилах 7–8 постулируется крайне важный для латинского богословия и философии тезис о тождестве бытия и сущности в простом и их различия в сложном. Непосредственно к парадигме тождества относится правило 7, согласно которому «все простое обладает единством своего бытия и того, что оно есть», т. е. бытие и сущность в простом тождественны, тогда как для всего остального они различны. Из всего сущего абсолютно простым является только Бог, поэтому данное правило, строго говоря, применимо лишь к Нему. Таким образом, Боэций подводит метафизическое основание под учение блж. Августина о Божественной простоте, закладывая онто-теологический фундамент всей последующей латинской традиции.
В частности, в конце трактата «О седмицах» Боэций пишет следующее: «Ибо „быть благим“ относится к сущности, а „быть справедливым“ — к действию (nam bonum esse essentiam, iustum uero esse actum respicit). Бытие и действие в Нем — одно и то же, поэтому быть благим — то же, что справедливым. А для нас бытие и действие — не тождественны (non est idem esse quod agere), ведь мы не просты. Поэтому для нас быть благими и справедливыми — не одно и то же, хотя бытие для всех нас — одно и то же, потому что мы существуем (sed idem nobis est esse omnibus in eo quod sumus)» (Boethius. Quomodo substantiae. P. 193.155–194.161). Согласно парадигме тождества, онтологические различия, о которых говорит Боэций, относятся только к сложному, тогда как в простом все является единым, вследствие чего бытие, сущность и акциденции в Боге — одно и то же. Поскольку действие является одной из акциденций, или категорий, оно тождественно сущности Бога, по мысли Боэция. Из этого следует, что различие между сущностью и действиями, т. е. энергиями, в этой парадигме не допускается. Вместе с тем здесь неявным образом предполагается, что концептуальный аппарат философии вполне адекватно фиксирует свой предмет: Бог тождественен предикатам, которые к Нему относятся. Как пишет Г. Г. Майоров, «К Богу не приложимы в обычном смысле ни категория качества, ни категория количества, ибо, в силу Его абсолютной простоты, для Него „быть“ и „быть справедливым“ или „быть великим“ — одно и то же: можно сказать, что „справедливость“ это не одно из качеств Бога, а сам Бог в Его субстанции, и то же самое правомерно сказать о Его „количестве“, имея в виду, конечно, не пространственную величину и не какое-либо составляющее Его субстанцию множество (это для Бога невозможно), а масштаб Его могущества, знания и благости: „величие“ — это не отдельное свойство Бога, как это было бы в случае с человеком; „величие“ — это весь Бог» [Майоров, 1990, 380].
С одной стороны, разработка парадигмы тождества позволяет Боэцию решить целый ряд богословских и философских вопросов, среди которых обоснование монотеизма при допущении ипостасного нетождества Отца, Сына и Святого Духа. В контексте арианского кризиса данное философское обоснование было очень значимым. С другой стороны, благодаря этой парадигме возникает теоретическое расхождение между западным и восточным христианством, поскольку последнее придерживалось прямо противоположной концептуальной модели, которую можно назвать парадигмой различия [Гагинский, 2016b]. Последующие латинские мыслители будут осмыслять и углублять парадигму тождества, но в основных чертах она останется неизменной: в Боге нет различия между «быть» и «иметь», что Бог имеет, то Он и есть (quod habet, hoc est). Едва ли будет преувеличением сказать, что парадигма тождества впоследствии станет нормативной для латинских мыслителей, более того, таковой она остается и до сегодняшнего дня, о чем свидетельствует доктрина абсолютной Божественной простоты, принятая в западной философской теологии17.
В качестве иллюстрации последующего развития парадигмы тождества можно обратиться к такой фигуре, как Фома Аквинский. В «Сумме против язычников» он пишет следующее: «Как активная потенция есть нечто действующее (potentia activa est aliquid agens), так ее сущность есть нечто сущее (essentia eius est aliquid ens). Но Божественная потенция есть Его сущность (divina potentia est eius essentia), как было показано. Следовательно, Его действие есть Его бытие (suum agere est suum esse). Но Его бытие есть Его субстанция (eius esse est sua substantia). И так далее» ( Thomas Aquinas. Summa contra Gentiles II.9). Абсолютная простота Бога предполагает, что сущность и действие в Нем тождественны; нет ни одного свойства, которое не было бы вместе с тем и Его сущностью18. И несмотря на то, что на Востоке, как было сказано выше, наиболее распространенной была совершенно иная парадигма, позиция Боэция и Фомы оказала большое влияние на некоторых поздневизантийских мыслителей, что привело к конфликту между византийскими томистами и паламитами.
24 декабря 1354 г. византийский чиновник Димитрий Кидонис заканчивает перевод на греческий язык «Суммы против язычников» Фомы Аквинского. Спустя несколько лет Димитрий принимает католичество. Вместе с братом Прохором он разворачивает активную переводческую и полемическую деятельность, стремясь доказать истинность латинского богословия. Разумеется, Кидонисы не принимают учение о Божественных энергиях, которое отстаивал Григорий Палама, потому что, следуя западной традиции, в Боге нельзя провести различия между сущностью и действиями Бога, ибо действие и есть сущность. Этой теме посвящен специальный трактат Прохора Кидониса «О сущности и энергии» (Περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας), который по большей части представляет собой выдержки из различных сочинений Фомы и имеет целью опровергнуть различие между сущностью и энергией. В частности, первые две книги посвящены доказательству того, что в Боге нет ничего потенциального и что, следовательно, сущность Бога тождественна Его действию и бытию (Prochorus Cydones. De essentia et operatione. PG 151. Col. 1192–1241)19.
После падения Константинополя дискуссии на эту тему по понятным причинам сошли на нет, однако полемика возобновилась в XX в., и сегодня мы имеем как сторонников различия сущности и энергии, опирающихся на восточную традицию, так и противников, следующих парадигме тождества. В данной статье я постарался показать, что учение о тождестве сущности и энергии — возведенное в ранг скрытой догмы — обусловлено определенной концептуальной моделью, которая восходит не столько к христианской традиции, сколько к Аристотелю и Плотину, и основано на сведении бытия к сущности. Однако сам Аристотель не отождествлял эти понятия, предлагая рассматривать бытие с разных сторон, ибо τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς — бытие сказывается многообразно ( Aristoteles. Metaphysica 1003b5). Иначе говоря, более точно весьма сложную позицию Стагирита можно было бы охарактеризовать так: бытие не сводится к сущности, но включает также значения истины, возможности, действительности и событийности (ens per accidens)20. C философской точки зрения не вызывает сомнений, что редукция бытия к сущности является весьма сомнительным предприятием. Более того, как отмечалось выше, учение о тождестве сущности, действий и бытия в Боге не содержит в себе ничего специфически христианского: оно берет начало в античной философской теологии и запечатлело на себе попытки греческих философов описать природу божественного. Однако нужно поставить вопрос, насколько такое описание продуктивно сегодня, можно ли вообще говорить о Боге языком античной философии, в значительной степени утратившей убедительность? Кроме того, можно ли найти в Священном Писании хоть что-то соответствующее тезису о тождестве в Боге сущности и свойств, а также этих последних между собой? На все эти вопросы я должен дать отрицательный ответ. В латинской патристике было сделано исключение для тезиса «бытие ни для чего не есть сущность (τὸ δ’ εἶναι οὐκ οὐσία οὐδενί)» ( Aristoteles . Analytica posteriora 92b13–14). По всей видимости, это было большой ошибкой.
Список литературы Философская теология Боэция: парадигма тождества
- Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990.
- Aristoteles. Analytica posteriora - Aristotelis analytica priora et posteriora / Ed. W. Ross. Oxford, 1964.
- Aristoteles. De anima - Aristotle. De anima / Ed. W. Ross. Oxford, 1961.
- Aristoteles. De interpretatione - Aristotelis categoriae et liber de interpretatione / Ed. L. Minio-Paluello. Oxford, 1966.
- Aristoteles. Metaphysica - Aristotle's metaphysics / Ed. W. Ross. Oxford, 1970. 2 vol.
- Aristoteles. Physica - Aristotelis physica / Ed. W. Ross. Oxford, 1950.
- Basilius Caesariensis. Adversus Eunomium - Basile de Césarée. Contre Eunome I-III // Sources chrétiennes 299, 305 / Ed. B. Sesboüé. Paris, 1982-1983.
- Boethius. Contra Eutychen - De Consolatione Philosophiae; Opvscvla Theologica / Ed. C. Moreschini. München; Leipzig, 2005. P. 206-241.
- Boethius. De Sancta Trinitate - De Consolatione Philosophiae; Opvscvla Theologica / Ed. C. Moreschini. München; Leipzig, 2005. P. 165-181.
- Boethius. Quomodo substantiae - De Consolatione Philosophiae; Opvscvla Theologica / Ed. C. Moreschini. München; Leipzig, 2005. P. 186-194.
- Marius Victorinus. Adversus Arium - Marius Victorinus. Opera theologica / Ed. A. Locher. Leipzig, 1976. P. 32-167.
- Plotinus. Enneades - Plotini Opera / Ed. P. Henry, H.-R. Schwyzer. Leiden, 1951-73. 3 vols.
- Prochorus Cydones. De essentia et operatione. - PG 151. Col. 1192-1241.
- Thomas Aquinas. Summa contra Gentiles. URL: http://www.corpusthomisticum.org/iopera. html (дата обращения: 20.04.2018). литература
- Брентано Ф. О многозначности сущего по Аристотелю. СПб., 2012.
- Брэдшоу Д. Аристотель на Востоке и на Западе: Метафизика и разделение христианского мира. М., 2012.
- Гагинский А. М. Рациональность и ее пределы в патристической философии // Христианское чтение. СПб., 2016. №. 3. С. 33-48.
- Гагинский А. М. Энергии простоты или простота энергии? Две парадигмы патристической философии // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. М., 2016. Вып. 4 (71). С. 21-28.
- Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 528 с.
- Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М.: Московский университет, 1986. 256 с.
- Жильсон Э. Бытие и сущность // Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004. С. 321-582.
- Майоров Г. Г. Судьба и дело Боэция // Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 256-335.
- Фокин А. Р. Аристотелевские категории в латинской тринитарной теологии (Марий Вкиторин, Августин, Боэций) // Философский журнал. М., 2016. Т. 9. № 1. С. 100-133.
- Bechtle G. The Anonymous Commentary on Plato’s Parmenides. Bern; Stuttgart; Wien: Paul Haupt, 1999. 285 p.
- Dolezal J. E. God without Parts: Divine Simplicity and the Metaphysics of God’s Absoluteness. Eugene: Wipf and Stock, 2011. 240 p.
- Gersh S. Middle Platonism and Neoplatonism in Latin Tradition. Notre Dame, 1986. Vol. 2.
- Hadot P. La distinction de l'être et de l'étant dans le "De Hebdomadibus de Boèce" // Miscellanea Medievalia. Berlin, 1963. Vol. 2. P. 147-153.
- Hadot P. Hadot, Porphyre et Victorinus. Paris: Études augustiniennes, 1968. 2 vols.
- Hadot P. Forma essendi: interprétation philologique et interpretation philosophique d'une formule de Boèce // Les Études Classiques. Namur, 1970. T. 38. № 2. P. 143-156.
- MacDonald S. Boethius's Claim that all Substances are Good // Archiv für Geschichte der Philosophie. Berlin, 1988. Vol. 70. № 3. P. 245-79.
- Marenbon J. Boethius. Oxford university press, 2003.
- Ortlund G. Divine Simplicity in Historical Perspective: Resourcing a Contemporary Discussion // International Journal of Systematic Theology. Oxford, 2014. Vol. 16. № 4. P. 436-353.
- Rijk de L. M. On Boethius's Notion of Being: A Chapter of Boethian Semantics // Meaning and Inference in Medieval Philosophy: Studies in Memory of Jan Pinborg / Ed. N. Kretzmann. Dordrecht, 1988. P. 1-29.
- Boethius. The Theological Tractates. The Consolation of Philosophy / Ed. H. F. Stewart, E. K. Rand. Cambridge; London, 19688.
- Vallicella W. F. Divine Simplicity. URL: https://plato.stanford.edu/entries/divine-simplicity/ (дата обращения: 18.04.2018).