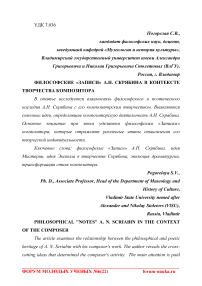Философские "записи" А.Н. Скрябина в контексте творчества композитора
Автор: Погорелая С.В.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 6-2 (22), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется взаимосвязь философского и поэтического наследия А.Н. Скрябина с его композиторским творчеством. Выявляются сквозные идеи, определившие композиторскую деятельность А.Н. Скрябина. Основное внимание при этом уделяется философским «Записям» композитора, которые отражают различные этапы становления его творческой индивидуальности.
Философские "записи" а.н. скрябина, идея мистерии, идея экстаза в творчестве скрябина, эволюция драматургии, трансформация стиля композитора
Короткий адрес: https://sciup.org/140283381
IDR: 140283381
Текст научной статьи Философские "записи" А.Н. Скрябина в контексте творчества композитора
Философские «Записи» А.Н. Скрябина были изданы в альманахе «Русские пропилеи» в 1919 году. Биографы А.Н. Скрябина сходятся в том, что «Записи» не являются случайным экскурсом композитора в чуждую ему область, что его философское и философски насыщенное поэтическое творчество органически связаны с творчеством собственно музыкальным. Однако в вопросе о том, что в наследии Скрябина оригинально, первично, а что было «переводом», «копией», позиции исследователей расходятся. Одни считают, что именно идея определяет скрябинские творения, что «мировоззрение было неотъемлемой сущностью его жизни и законодателем его художественного творчества» (А.Альшванг). Другие полагают, что абсолютную ценность представляют лишь музыкальные произведения композитора, а «идеологией» Скрябин лишь дублирует в системе понятий то, что уже сказано им в музыке (И. Лапшин).
Попытаемся сопоставить духовно-умственное и композиторское творчество А.Н. Скрябина разных лет, проследить их связь и выявить сквозные для его творчества идеи, определившие композиторскую деятельность Скрябина, послужившие стимулом к ней, проявившие себя в замыслах и образном строе его произведений.
Одной из сквозных идей, пронизывающих не только философию, но и все творчество А.Н. Скрябина, стала идея преображения жизни с помощью искусства, трансформировавшая впоследствии в идею Мистерии. Во вступительной статье к приготовленным к печати запискам композитора 1877-1910 гг. М.Гершензон указывает на значимость «Записей» как запечатленной в документах биографии идеи Мистерии – этой «единой, совершенно-личной и глубоко органической мысли Скрябина»1.
Многие исследователи скрябинского творчества (например, Б. Асафьев, В. Бобровский, Ю. Тюлин, Е. Полупан) указывают на наличие у А.Н. Скрябина сверхъидеи или универсального сверхобраза Экстаза, который становится у композитора «центростремительным образным стержнем всей художественной системы, к которому притягиваются и вокруг которого вращаются другие, порожденные им образования» (Е.В. Полупан).
С 1900 г. (Первая симфония композитора) «к музыке, служащей преимущественно выражению чувств, присоединяется сознательная идея»2, мысль о миропреобразующей силе искусства, об определяющей роли художника-творца в мировом процессе, о своем собственном мессианском предназначении. Здесь начинается тот мистико-философский путь, которого композитор будет придерживаться в последующих исканиях.
Представляет интерес стихотворный двойник его «Поэмы экстаза» (опубликован в «Русских пропилеях), содержанием которого является вечная игра созидающего духа («Дух играющий, Дух порхающий, Вечным стремленьем Экстаз создающий»3), тем более что именно на этот период приходится формирование скрябинской идеи Мистерии. Здесь композитор-мистик впервые рисует «пожар всеобщий», которым объята вселенная, прозревает примирение всех контрастов в последнем Экстазе: «Что угрожало – Теперь возбужденье, Что ужасало – Теперь наслажденье»4. Фактически, это уже прямое предвосхищение будущего «Предварительного действия». Характерно, что именно с этого времени музыка Скрябина насыщается философско-поэтическими символами, диапазон переживаний, отраженных в ней, степень интенсивности их все увеличиваются. Экстаз композитора-мистика становится «прорывом в сверхчеловеческое», выходом в иной мир, и его черты становятся все более яркими и определенными от опуса к опусу. Это находит отражение и в музыке Скрябина: в применении новых выразительных средств, в символизации музыкального текста, в уходе от жанрово определенного мелодизма к темам, отмеченным мелодической и ритмической абстрактностью, многозначным и таящим в себе богатые возможности самораскрытия.
Наконец, в последние годы жизни и творчества композитора «всеобъемлющий пафос и идея мистической созидательности дополняются ломкой прежних форм» (Семпер). Усложненность средств выразительности достигает предела. Традиционные протяженные мелодии практически вытесняются столь узнаваемыми, характерно скрябинскими условными образами-символами. На смену широкому тематическому развитию приходит сложное, полифонически насыщенное (многоуровневое) комбинирование различных тем. В «Прометее», равно как и в последующих произведениях А.Н. Скрябина, основы функциональной мажоро-минорной ладовой системы расшатываются; окончательно утверждаются своеобразные скрябинские лады (такие, как целотонный, или увеличенный), которые, к слову сказать, постепенно кристаллизовались на протяжении 1900-х годов. Широко используются и «авторские» созвучия (например, «прометеевский аккорд»). Фактически, скрябинское музыкальное творчество уже выходит за пределы тональной музыки, за рамки любой «традиции» (классической, романтической), прокладывая путь к «экспериментальной», авангардистской музыке композиторов нового поколения.
Параллельно в философии Скрябина окончательно утверждается свободная деятельность индивидуального сознания (созидающего, познающего), как «высший принцип, который связывает отдельные факты опыта в единый мир»5. В своем целостном проявлении «творящий дух» композитора-философа выходит за границы любого «традиционного» способа видения мира (хотя отдельные принципы сближают его с буддистским, раннеромантическим и другими типами миросозерцания). Это, по-видимому, и дало повод Б. Пастернаку назвать Скрябина «решительнейшим исключением из традиции среды».
Отметим несколько особенно важных для понимания композиторской индивидуальности Скрябина моментов.
Духовно-умственное творчество композитора-философа самым непосредственным образом связано с его творчеством музыкальным; вектор развития тому и другому задан идеей Мистерии, которая постепенно кристаллизуется и апробируется в произведениях композитора, начиная с 1900 годов. Уже беглое ознакомление со скрябинскими «Записями» позволяет убедиться в абсолютной цельности, однородности его философского и поэтического творчества. Изучение собственно музыкального творчества композитора позволяет выявить ту же картину «моноидейности», что, без сомнения, говорит о скрепленности всего творчества Скрябина неким генеральным замыслом.
Кроме объединяющей сверхидеи (идеи Экстаза, трансформировавшейся впоследствии в осознанную идею Мистерии) творчество Скрябина пронизывает целый ряд лейтидей, свободно переходящих из философско-поэтического творчества в музыкальное и обратно. К ним можно отнести идеи «божественной игры», «стремления», «самоутверждения», «томления», радости, «полета» и другие темы-идеи.
Еще одна сквозная тема размышлений композитора – проблема познания природы свободного творчества. Этот вопрос неоднократно поднимается на страницах философских «Записей» А.Н. Скрябина. Познавая себя, художник познает мир – на этом тезисе построена вся скрябинская «артистическая метафизика».
Композитор вычленяет три этапа (фазы) любого жизненного процесса (творческого, поскольку для него жизнь есть творчество): 1) переживание чего-либо, как отправная точка; 2) недовольство переживаемым, хотение новых переживаний, стремление к достижению цели (собственно, что и составляет суть творческого процесса); 3) достижение идеала и новое переживание. Данная ритмическая фигура (триада) развивается, многообразно варьируется на страницах «Записей»: «От центра, вечно от центра, [ ? ] стремительно. И вот сопротивление преодолено – масса частиц отрывается вместе с одной главной. Новый центр, окруженный массой единообразных, стремящихся от центра частиц… Новый порыв – новый центр, и от него порыв»6.
Общность мистических переживаний Скрябина, запечатленных в его «Записях», и драматургии его музыкальных произведений тоже может быть объяснена существованием «сверхидеи», объединяющей оба вида творчества.
Данная ритмическая формула (триада) своеобразно представлена и в собственно музыкальных творениях А.Н. Скрябина – почти все произведения зрелого периода строятся на принципе «вечного возвращения» темы-символа в обогащенном, варьированном, ладово-тонально-измененном виде. Излюбленной формой сочинений Скрябина этого времени становится «спираль символизма».
Будучи наиболее общим принципом развития и формообразования, своего рода «перводвигателем» скрябинской музыки, триадность определяет и драматургию целого ряда скрябинских произведений.
Содержание практически всех крупных произведений композитора – это запечатленное им «бытие становления» творящего духа, «достижение без достигания», динамика развития человеческого «я», его рост до всеобъемлющей Божественной индивидуальности и - конечный экстаз, в высшем синтезе соединяющий несоединимое, примиряющий всякие контрасты.
Такие образы, как «вечное стремление к свободе», «миг, порождающий вечность», желание «вечно иного, нового», жизнь как «творческий порыв (хотенье)», «единая деятельность духа, проявляющаяся в ритме», «ритмическая фигура, заканчивающаяся всеобъемлющей индивидуальностью, - Богом», которые фигурируют в «Записях» композитора, пронизывают все духовно-умственное творчество Скрябина. Но различные стадии того же самодвижения человеческого «я» составляют и содержание скрябинских произведений, определяют их драматургию.
Показателен (и тоже говорит о тесной связи философии Скрябина и его музыкального творчества) тот факт, что именно в период, отмеченный «ницшеанством» и тесным контактом с символистами, трансформируется композиторский стиль, наблюдается постепенное усложнение, индивидуализация музыкального языка. В это время в творчестве Скрябина появляются сжатые, лаконичные, символически насыщенные темы (образы-символы), которые трактуются самим композитором в ницшевско-символистских терминах (как воплощение воли, преодоления, самоутверждения, «томления», мечты, «полета к солнцу», манящего «света далекой звезды», предостерегающих «ритмов тревожных» и так далее).
На завершающий период творчества Скрябина приходится обоснование «автономной» эстетики, находящейся «по ту сторону» всякой традиции, утверждение не связанного прежними канонами и условностями нового, свободного искусства, которое композитор считает высшей формой человеческой деятельности, способом бытия человека-Творца (Бога) и его свободной игрой, создающей мир силой желания. В это время происходит наибольшее усложнение и индивидуализация музыкально-выразительных средств, достигают своего пика экспериментаторство в области тематизма (и одновременно выводятся из обращения традиционные развернутые темы), новаторство в области гармонии (расшатываются основы традиционной функциональной мажоро-минорной системы) и в области формы (наряду с ломкой прежних форм).
Таким образом, философское и поэтическое творчество гениального композитора представляет несомненный интерес, прежде всего, как самостоятельный и независимый творческий процесс, имеющий с музыкальным творчеством общий источник - интуицию художника. Анализ записок разных лет позволяет проследить различные этапы становления индивидуальности композитора. Кроме того, его философские «Записи» важны как дополнение и авторский комментарий к музыкальному наследию и как путь к пониманию мирообъемлющих замыслов композитора-символиста.
Список литературы Философские "записи" А.Н. Скрябина в контексте творчества композитора
- Гершензон М.А. // Русские пропилеи.
- Лапшин И. Заветные думы Скрябина. - Пг.: Мысль, 1922, с. 30.
- Ницше Ф. Соч. в 2-х т., т. 1, с. 58.
- Скрябин А.Н. Записи // Русские пропилеи.
- Цит. по: Бандура А. Творческая вселенная А.Н. Скрябина, с. 25.
- Шлецер Б.Ф. А. Н. Скрябин, т. 1. Берлин, 1923, с.153.