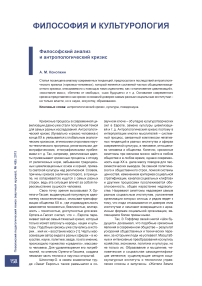Философский анализ и антропологический кризис
Автор: Конопкин Алексей Михайлович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (6), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу современных тенденций, предпосылок и последствий антропологического кризиса («кризиса человека»), который является составной частью общецивилизационного кризиса, описываемого с помощью таких идеологем, как «столкновение цивилизаций», «восстание масс», «бегство от свободы», «шок будущего» и т. д. Основание современного кризиса представлено как кризис оснований доверия самым разным социальным институтам -не только власти, но и науке, искусству, образованию.
Антропологический кризис, культура, псевдонаука
Короткий адрес: https://sciup.org/14219318
IDR: 14219318
Текст научной статьи Философский анализ и антропологический кризис
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
Кризисные процессы в современной цивилизации давно уже стали популярной темой для самых разных исследований. Антропологический кризис (буквально «кризис человека») конца XX в. увязывается с глобальным экологическим кризисом, этическими сторонами научно-технического прогресса, религиозными, демографическими, этнографическими проблемами и т. д. Так, например, религиозные адепты привязывают кризисные процессы к отходу от религиозных норм, забыванию традиционных цивилизационных основ и корней, примату светской культуры над религиозной. Словом, причины кризиса (наличие которого, в принципе, не оспаривается) ищутся с самых разных сторон, ведь эта ситуация влечет за собой переосмысление сущности человека.
Свою точку зрения высказывал Х. Ортега-и-Гассет, выдвинувший популярную идеологему «восстание масс», описывая трансформации общества ХХ в., где индивидуальность заменяется похожестью, безликостью, элитарность – понятностью, доступностью для всех. Ортега-и-Гассет считал, что «...Европа переживает сейчас самый тяжелый кризис, который только может затронуть народы, нации и культуры. Подобные кризисы уже случались в истории... имя их – восстание масс» [1]. Черты мас-совизации автор видел в разных сферах – в искусстве, науке, политике; везде, по его мнению, происходило торжество «среднего», массового человека. Для удовлетворения его потребностей, по мнению Ортеги-и-Гассета, создана немалая часть техники и научных открытий.
Шпенглер О. в своем знаменитом труде «Закат Европы» также размышлял в со- звучном ключе – об упадке культуротворческих сил в Европе, замене культуры цивилизацией и т. д. Антропологический кризис поэтому в интерпретации многих мыслителей – системный процесс, связанный комплексом негативных тенденций в разных институтах и сферах современной культуры, в человеке, отношениях человека и общества. Конечно, кризисные симптомы при желании можно найти в любом обществе и в любое время, однако современность еще ХХ в. дала массу поводов для пессимистических выводов. За сменой политического и общественного строя, ломкой системы ценностей, изменением критериев социальной стратификации, каналов социальных «лифтов» и другими процессами прослеживается обеспокоенность, общее нарастание недовольства. Назревают симптомы недоверия самым разным социальным институтам, усложнение организации которых сплошь и рядом ведет к тому, что люди отказываются от доверия этим институтам и начинают возвращаться к архаичным формам социальной организации, являющимся более привычными.
Так, Э. Тоффлер своей книгой «Шок будущего» доказывал, что подобные кризисные явления в современном обществе – результат ускорения общественных и технических перемен, за которыми люди не успевают. Масштабные и интенсивные преобразования коснулись хозяйства, экономики, политики и культуры, но не только их. Образование и мышление, человеческая и социальная самоидентификация меняются; существующие сегодня социокультурные институты и технологии управления сложны и запутанны. «Жители Земли разделены не только по расовому, религиозному или идеологическому признаку, но также в каком-то смысле и во времени. Изучая нынешнее население земного шара, мы обнаруживаем небольшую группу людей, которые еще живут охотой и собирательством, как тысячи лет назад. Другие, их большинство, полагаются не на медвежью охоту или сбор ягод, а на сельское хозяйство… Это люди прошлого. Более 25 % населения Земли живут в промышленно развитых странах. Они живут современной жизнью… Оставшиеся 2–3 % населения планеты нельзя назвать ни людьми прошлого, ни людьми настоящего. Ибо в главных центрах технологических и культурных перемен, в Санта-Монике (Калифорния) и Кембридже (Массачусетс), в Нью-Йорке, Лондоне и Токио о миллионах мужчин и женщин можно уже сказать, что они живут в будущем. Эти первопроходцы, часто неосознанно, сегодня живут так, как другие будут жить завтра… что особенно отличает людей будущего – это то, что они уже попали в новый, ускоренный темп жизни. Они “живут быстрее”, чем люди вокруг них» [2].
Парадокс, видимый в примерах Тоф-флера, в том, что даже граждане самых богатых в мире и наиболее технически развитых стран не смогут поспевать за непрекращающи-мися требованиями перемен, и чем более «продвинута», богата страна, тем больше требуется от ее граждан изворотливости, чтобы успевать за темпом перемен. Иначе говоря, будущее наступает слишком быстро. С этим столкнулись страны, называемые постиндустриальными – США, Япония, Германия и некоторые другие; однако не так уж много людей с радостью воспринимают высокий темп перемен. Многие сопротивляются им. Появляется враждебное отношение, озлобление, отклонения во взглядах, попытки «забиться в свой угол», замкнуться в себе посредством социального, интеллектуального и эмоционального отчуждения, отстранения от окружающего мира. Они все время чувствуют себя уставшими и хотят уйти от проблем. «Шок будущего» поражает психику, а тело разрушается под напряженным воздействием окружающей среды. Э. Тоффлер прямо связывает все нарушения психики, вызванные временным нарушением сознания (например, наркотики, мистицизм, вспышки вандализма) с проявлениями шока будущего.
Разговоры о «второй промышленной революции», «информационном обществе», «постиндустриальном обществе» сталкиваются с тем фактом, происходящее сейчас больше, глубже и важнее, чем только промышленная или технологическая революция. Тоффлер говорит о том, что совершается второй великий раздел в истории человечества, наподобие не- олитической революции, перехода от варварства к цивилизации.
Политический аспект антропологического кризиса анализировался еще в классических работах Э. Фромма о проблеме предпосылок тоталитарного общества. Автор пришел к интересным (в контексте антропологического кризиса) выводам. Вековое стремление к завоеванию свободы от политических, экономических и духовных оков выразилось в принципах экономического либерализма, политической демократии, отделения церкви от государства и индивидуализма в личной жизни. Однако история тоталитаризма показывает удивительную легкость, с которой люди расстались со свободой в фашистских государствах.
Автор говорил о том, что вопреки видимости оптимизма и инициативы современный человек подавлен глубоким чувством бессилия; люди вполне успешно функционируют в экономической и социальной жизни, но за этим благополучным фасадом есть скрытая неудовлетворенность бессмысленностью происходящего. Отсюда готовность принять любую идеологию и любого вождя, который предлагает яркие и понятные символы и цели, дающие жизни какую-то видимость смысла и порядка. Отчаяние людей – питательная среда для политических целей фашизма.
Рассуждая в поздних работах в более широком контексте, Фромм стал говорить о необходимости гуманизации технологического общества. Призрак современный – вовсе не призрак фашизма или коммунизма, «это новый призрак: полностью механизированное общество, посвящающее себя исключительно материальному производству и потреблению и направляемое компьютерами; и в этом социальном процессе человек сам превращается в часть гигантской машины, хорошо обеспеченную хлебом и зрелищами, но пассивную, неживую… С победой нового общества индивидуализм и приватность исчезнут…» [3]. Заметно как сходство этих идей с идеями начала века (О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет), так и углубление пессимизма и пророческих нот.
Отчаяние питает не только политические пристрастия к тоталитаризму, но и современный «ренессанс» псевдо/лженауки. Критика научно-технического прогресса, реинкарнация религиозности приводят к возрождению крайне архаичных элементов мифологии, мистики. Современным трендом становится недоверие к специалистам, ученым, инженерам; все больше людей обращаются к гадалкам, магам, экстрасенсам, пытаются лечиться «святой водой», с помощью нетрадиционной медицины. Психотерапия, психоанализ, альтернативная медицина не столько лечат реальные болезни, сколько пытаются примирить человека с самим со-
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
бой, с обстоятельствами жизни. Человек уже не отвечает за себя сам, решение жизненных проблем перекладывается на тех, кто вскрывает «подавленные комплексы», «чистит карму» или «биополе». Псевдонаука ищет заговор ученых, специалистов, которые замалчивают истины, известные в паранаучных кругах.
Кроме того, известно, что общественная идеология (особенно в периоды социально-политического, экономического кризиса) склоняется к индивидуальному благополучию в ущерб общественному. Аскетизм, призывы к спасению души или общему светлому будущему сменяются идеологией «здесь и сейчас», для себя, «во что бы то ни стало» во всех сферах жизни. Удовлетворение постоянно растущих потребностей индивида часто становится самоцелью. Отношение к смерти теряет религиозную окраску, мотив связи с предками; смерть становится злом, которое нужно преодолеть во что бы то ни стало.
Социальное время сжимается, исчезает историческая память. Люди все меньше разбираются в истории страны, ее культуре. Они живут лишь сегодняшним днем, впрочем, едва ли осознавая и то, что происходит в современной культуре и политике. Усилия по популяризации многих тем отечественной истории сталкиваются с незнанием самой истории, и вина лежит не на системе образования, которая уделяет достаточно времени на изучение социально-гуманитарных предметов, суть в отсутствии интереса к чему-либо, не имеющему практического значения здесь и сейчас.

Philosophical Analysis and Anthropological Crisis
Однако попытки возложить вину за «кризис человека» на научно-техническую революцию неправомерны. На наш взгляд, проблема здесь шире и заключается в комплексном усложнении самых разных социальных институтов. Рост псевдонауки, недоверие к науке, думается, – это лишь аспекты более общей социальной проблемы – потери доверия ко многим социальным институтам. Это политические институты демократии, власть, наука, техника и технологии, СМИ. Современный человек все более запутывается в сложностях мироустройства; все кажется чужим, непонятным, слишком сложным. Все труднее становится принять осмысленное решение. Кризис связан с недоверием к социально-политическим институтам власти, реформам, интеллигенции. Поэтому, по сути, ведущей стороной общецивилизационного кризиса оказывается именно антропологический кризис доверия. Кризис обычно означает неизбежность трансформации; думается, в данном случае это будет поиск новых форм и оснований доверия, конкуренция социальных институтов прежде всего не за материальные ресурсы, а за доверие людей.
Список литературы Философский анализ и антропологический кризис
- Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе о литературе и искусстве: сб. М.: Радуга, 1991. С. 41.
- Тоффлер Э. Шок будущего: пер. с англ. М.: ООО «Издательство ACT», 2002. С. 49-50.
- Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 23.