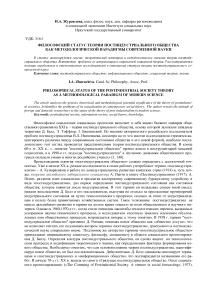Философский статус теории постиндустриального общества как методологической парадигмы современной науки
Автор: Журавлева И.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (35), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются генезис, теоретический потенциал и методологическое значение теории постиндустриального общества. Выявляются проблемы ее актуализации в современной социальной теории. Рассматриваются позиции зарубежных и отечественных исследователей в отношении статуса теории постиндустриализма в современной науке.
Постиндустриальное общество, информационное общество, социальная теория, знание
Короткий адрес: https://sciup.org/142142419
IDR: 142142419 | УДК: 316:1
Текст научной статьи Философский статус теории постиндустриального общества как методологической парадигмы современной науки
Философское осмысление социальных прогнозов включает в себя анализ базового сценария общественного развития на XXI в. – теории постиндустриального общества, основу которой заложили западные теоретики Д. Белл, Э. Тоффлер. 3. Бжезинский. По мнению авторитетного российского исследователя проблем постиндустриализма В.Л. Иноземцева, несмотря на то что многие исследователи стремятся акцентировать различия между современным состоянием общества и его новой формой, наиболее последовательно этот взгляд проводится представителями теории постиндустриального общества. В конце 60-х гг. XX в.: «...понятие "постиндустриальное общество" прочно вошло в инструментарий западной социологии, а в 1990-е гг. подходы "постиндустриалистов" к изучению динамики общественного прогресса овладели умами и многих российских ученых» [1, 140].
Происхождение понятия «постиндустриальное общество» сложно определить с достаточной точностью. Уже в начале ХХ в. разные исследователи в своих работах употребляют термин «постиндустриализм» – А. Кумарасвами в работе по доиндустриальному развитию азиатских стран (1914) и, чуть позже, теоретик английского либерального социализма А. Пенти в книге «Постиндустриализм» (1917). А. Пенти, разделяя идеи социализма и предлагая альтернативу современному буржуазному устройству в виде «постиндустриализма», дал первое определение постиндустриального состояния как состояния общества, которое появится после индустриализма. В этот термин он вкладывал совсем иной смысл, нежели впоследствии Д. Белл и его последователи, выступая не столько за преодоление противоречий индустриального состояния на путях технологического прогресса, сколько за отказ от индустриализации в пользу более примитивных хозяйственных систем. Такое толкование постиндустриализма не нашло дальнейшего развития и термин на долгое время «выпал» из поля общественного и научного интереса. Однако в 1960-1970-е гг., когда стали очевидны масштабы технологических перемен, вызванных ускорением научно-технического прогресса, и исследователи вплотную занялись изучением обусловленных ими общественных процессов, возрождается интерес к этому понятию. В 1958 г. термин "постиндустриальное общество" применил Д. Рисман, понимая новое общество как «общество досуга», что не позволяет считать его подлинным автором термина «постиндустриализм», трактуемого в постнеклассической науке совершенно иначе. Подлинное же авторство термина «постиндустриальное общество» принадлежит американскому социологу, философу, специалисту в области социального прогнозирования Д. Беллу. Определяя контуры постиндустриального общества, он сделал акцент на технологическом прогрессе и кодификации теоретического знания, как определяющих факторах формирования нового общества. Необходимо отметить, что сам основоположник теории постиндустриализма, идентифицируя новое общество, не был последовательным. Действительно Д. Белл одинаково апеллирует терминами и «постиндустриальное» и «информационное» общество, что подтверждается названиями его работ. В начале 70-х гг. ХХ в. вышла его книга «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» («The Comming of Postindustrial Society. А venture in social forecasting», 1973), раскрывающая главные черты складывающегося нового общественного устройства. Позже, в 1980-е гг., в связи с бурным развитием информационно-телекоммуникационных технологий, обусловившим актуализацию проблемы социального прогнозирования в науке, выходит его книга «Социальные рамки информационного общества» («The Social Framework of the Information Society»,1980). Известный критик теории информационного общества Ф. Уэбстер отмечает: «Несколько лет назад Д. Белл начал заменять термин «постиндустриализм» термином «информационное общество». Но это ничего не изменило в его анализе – его «информационное общество» по всем характеристикам есть то же самое, что «постиндустриальное общество» [2, 79]. На наш взгляд, это факт определил главную проблему демаркации теорий информационного общества и постиндустриального общества, когда вслед за Беллом многие исследователи стали использовать эти термины практически как синонимы: информационный век трактовать как выражение постиндустриального общества, а постиндустриальное общество часто рассматривать как информационное.
В середине 1970-х гг. термин «постиндустриальное общество» был не единственным понятием, в котором использовался префикс «пост». Феноменология понятия «пост-» многообразна, включает в себя постпозитивизм, постструктурализм, постнеклассику, постмодернизм, постисторицизм, и даже постчеловека. В то время появились определения западного общества как «постбуржуазного», «посткапиталистического», «постпредпринимательского» (или «пострыночного»). В ранней интерпретации Белла именно термин «постиндустриальное общество» более точно, чем иные термины, отражает ту «быструю эрозию», которой подверглись «старые общественные отношения» [3]. Однако, рассмотрев многие черты формирующегося постиндустриального общества, которые со временем стали реальностью, Д. Белл не смог сконструировать противопоставление «постиндустриальное», «индустриальное», «доиндустри-альное», отталкиваясь от понятия «постиндустриальное общество». Приставка «пост-» свидетельствует лишь о том, что это общество, которое приходит вслед за индустриальным, следующим после него. Но «за кадром» осталось содержание «постиндустриального общества», подобно тому, как термин «доин-дустриальное общество» требует раскрытия своего содержания – аграрное, традиционное. Вероятно, именно это понимание позднее заставило Д. Белла связать терминологию и образ постиндустриального общества с информационном обществом, что не способствовало, однако, полному раскрытию концепта «постиндустриальное общество». Сам Д. Белл и многие его последователи говорили о содержательном ограничении применения приставки "пост", что, с одной стороны, неизбежно подчеркивает переходный характер данного общественного состояния, а с другой – свидетельствует о невозможности теории достаточно полно определить черты будущего с позиций этого "переходного" настоящего. По мнению В.Л. Иноземцева, именно в оценке этого момента Беллом скрыта фундаментальная проблема, которая сегодня выходит на первый план. Разделяя эту позицию, мы полагаем, что постиндустриальному обществу вряд ли может соответствовать четкая дефиниция, основанная на отдельных доминирующих признаках. Говорить о сформировавшемся постиндустриальном обществе можно только тогда, когда будет достигнут «… принципиально более высокий уровень жизни и отношений между людьми по сравнению с предыдущим состоянием, а тенденции носят столь выраженный характер, что это позволяет сделать достоверный социальный прогноз дальнейшего развития» [1, 124].
Используя синтез различных подходов к анализу современного социума, Д. Белл обосновывал свою ключевую идею о том, что человечество выходит на новый этап своего развития и вступает в постиндустриальное общество, которое характеризовал следующим образом: «Постиндустриальное общество, – пишет он, – это общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни; в котором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений во все большей степени стало зависить от достижений теоретического знания» [3,102].
Концептуализация идей постиндустриализма отмечена определенной двойственностью – постиндустриальное общество рассматривается, с одной стороны, в качестве некоторой объективной реальности, воплощающей в себе результаты происходящих трансформаций, с другой – в виде идеальной логической конструкции, помогающей осмыслить современность. «Постиндустриальное общество является «идеальным типом», построенным, составленным социальным аналитиком на основе различных изменений в обществе, которые, сведенные воедино, становятся более или менее связанными между собой и могут быть противопоставлены другим концепциям. Она есть некая парадигма, социальная схема, выявляющая новые оси социальной организации и стратификации в развитом западном обществе» [3, 655]. Используя в качестве основного критерия типологизации общественного устройства доминирующий вид трудовой деятельности, Белл выделяет три большие исторические эпохи, образующие триаду «доинду-стриальное – индустриальное – постиндустриальное общество». Белл полагал, что постиндустриальное общество не вырастает из наиболее острых противоречий индустриализма, а возникает вместе с появлением новых структур в отдельной общественной сфере – технико-экономической, в первую очередь в экономике, сфере занятости, не связанными с политикой и культурой. Он предлагает разъединить общественные отношения и технологии, рассматривая их «как независимые исторические переменные». Так, по «оси» общественных отношений он располагает рабовладельческий, феодальный и капиталистический строй, а по технологической «оси» – доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Такая конструкция способна раскрыть существенные отличия обществ различных типов, но не в рамках реконструкции предшествовавших исторических событий, а в структуре современного автору мира, предполагающее выделение ведущих тенденций формирующегося социума. В рамках концептуальной схемы определяется организующий каркас общества, вокруг которого группируются социальные институты. Но такой подход не позволяет обсуждать проблему трансформации общества, в том числе и постиндустриального, как целостностной системы, а сводит представления об изменениях лишь к версиям его различных сегментов.
Таким образом, основания постиндустриальной модели Д. Белла не представляются бесспорными. И все же в его взглядах на природу формирующегося общества есть аспекты, которые позволяют говорить о новаторстве Белла, в первую очередь это обоснование «осевого принципа» формирующегося общества – приоритетности знания. «Понятие «постиндустриальное общество» указывает на центральную роль теоретического знания как некой оси, вокруг которой располагается новая технология, экономический рост и социальная структура общества» [3, 128].
По мнению Ф. Уэбстера, мало кто из исследователей уделяет внимание теоретическому знанию, их внимание в большей степени обращено на феномены, связанные с технологиями, экономикой, так как они поддаются количественному измерению. Заслуга Белла в том, что его «постиндустриальное общество» – это общество, в котором доминирующую роль играет теоретическое знание, чего, по мнению Ф.Уэбстера, прежде не было.
Концепция Д. Белла «была изначально создана в таком виде, который мог как легко инкорпорировать в себя целый ряд новых направлений в социологическом анализе, так и, в свою очередь, породить множество новых подходов, основанных на применении своих основополагающих методологических постулатов к оценке возникающих с течением времени тенденций и процессов» [1,3-4]. Это определило дальнейшее развитие идей постиндустриализма в трудах многих западных исследователей: Дж. Гэлбрейта, У. Дайзарда, М. Кастельса, Р. Катца, М. Маклюэна, Е. Масуды, Дж. Мартина, М. Пората, Т. Стоуньера, О. Тоффлера, А. Турена. В отечественной науке это направление представлено работами Р.Ф. Абдеева, С.А. Дятлова, Д.В. Иванова, В.Л. Иноземцева, Н.Н. Моисеева, А.И. Ракитова и др. В 1970-е гг. концепция постиндустриального общества воплотила собирательный образ западного общества, уровень и качество жизни которого выступали ориентиром для большинства стран, определяющих для себя пути дальнейшего развития. Условием, позволяющим этим странам войти в так называемую “техносферу” человечества, является ускоренное освоение достижений постиндустриальных государств. Позднее, в 1980-1990-е гг., постиндустриальное общество рассматривается как качественно новая ступень развития уже не только Запада, но и всего человечества, под разными названиями – «супериндустриальная цивилизация» (О. Тоффлер, США), «технотронное общество» (З. Бжезинский), «информационное общество» (Е. Масуда).
Наиболее последовательному развитию и широкому распространению идеи постиндустриализма способствовала их популяризация американским социологом и футурологом Э. Тоффлером, выстраивавшим свои представления о трансформации современной цивилизации в русле новейшей американской социологии, с присущим ей технологическим детерминизмом, и в этом смысле он мало чем отличался от Д. Белла. В теоретической модели Тоффлера критерием, позволяющим сравнивать прошлое, настоящее и будущее, выступает время. Тоффлером предлагается версия феноменологии исторического процесса, казалось бы, отличная от традиционной, однако не столь уж и неожиданная. Концепция истории подразделяется Тоффлером на два основных периода: «доцивилизационный» и «цивилизационный», состоящий из трех стадий: «Первой волны» (аграрной цивилизации), «Второй волны» (индустриальной цивилизации) и «Третьей волны» (сверхиндустриальной, супериндустриальной цивилизации). Фактор, преобразующий исторический процесс, Э. Тоффлер называет «волной», являющейся грандиозным поворотом в истории, всесторонним преобразованием всех форм общественной и индивидуальной жизни. Он имеет в виду не социальную революцию, направленную на смену политического режима, а технологические изменения, вызревающие эволюционно, но впоследствии порождающие глубинные потрясения. Однако "фронтоволновая" хронологизация развития человеческой цивилизации, предложенная Тоффлером, имеющая в своей основе оценку форм и методов общественного производства в соответствующих социумах, отличается от подходов в выделении общественно-экономических формаций основоположниками марксизма и аграрного, индустриального, постиндустриального обществ, сторонниками Белла, в большей степени иными терминами. Для описания новых феноменов в истории цивилизации Тоффлер использует термин «супериндустриальное общество», понимая под ним «обозначение сложного, быстро движущегося общества, опирающегося на высокопередовую технологию и постматериалистическую систему ценностей» [4, 32]. Позже в своих исследованиях, начиная с «Метаморфоз власти», Тоффлер употребляет термин «постиндустриальное общество». Развивая идеи Д. Белла, Э. Тоффлер выделяет ключевые характеристики формирующегося общества: традиционные факторы производства – земля, труд, сырье и капитал – становятся менее значимыми, так как их заменяют символические знания; превращение знаний и информационных технологий в ключевой фактор прогресса; вытеснение индустрии сферой услуг; изменение структуры производства, институциональной системы.
Подлинная же новация Э. Тоффлера заключалась не в употреблении волновой метафоры, а в ее использовании для авторской экспликации современных трансформационных процессов. Новым в его концепции выступил и предмет исследования – не только сами изменения современного общества, но и их последствия и перспективы. Наиболее опасным для человечества является сам переход, названный Э. Тоффлером «столкновением волн», когда происходит коренное изменение старого, а новое еще не укрепилось в обществе. Заслугой Тоффлера является рассмотрение происходящих изменений не только с позиции «великой исторической перспективы», но и с точки зрения людей, испытывающих потрясение от стремительно разворачивающихся перемен. Состояние стресса и дезориентации, возникающее у людей, вследствие стремительных перемен за короткое время Тоффлер называет «футурошоком». Он предупреждает о новых опасностях, социальных конфликтах и глобальных проблемах, с которыми человечество столкнется на рубеже тысячелетий, и отмечает, что в такой ситуации кризиса особое значение приобретает знание – главная производительная сила общества, не вытесняющее полностью традиционные факторы производства, но существенно снижающее их влияние. В интерпретации Тоффлера понятие «знание» приобретает расширенный смысл: «Он будет охватывать или относить к определенным категориям информацию, данные, представления и образы, а также подходы, ценности и прочие символические продукты общества, независимо от того, «истинны» они, «приблизительны» или «ложны»» [5,41]. В таком понимании знание превращается в «информационный и символический капитал», выступая реальной полезной силой, средством достижения социальных и экономических результатов как отдельным индивидом, так и обществом в целом. Знания, согласно Тоффлеру, выступают фактором трансформации сферы занятости и социальной структуры общества. «Чисто физический труд находится в нижней части спектра и постепенно исчезает. С малым количеством занятых физическим трудом в экономике «пролетариат» сейчас находится в меньшинстве и больше заменяется «когнитариатом» [5, 103-104]. Тоффлер создает образ «нового героя», отмечая, что это уже не просто рабочий или менеджер, а новатор, который способен генерировать новые идеи на основе знаний и приводить их в действие.
Тоффлер подчеркивает что его представления не претендуют на статус объективного прогноза и научно обоснованной модели. Это признание делает Тоффлеру честь, не уменьшая его вклада в развитие и популяризацию идей постиндустриализма, и свидетельствует, возможно, о понимании им условности сделанных им прогнозов.
Глобалистический вектор в концепции постиндустриального общества задал американский политолог З. Бжезинский, попытавшийся вписать теорию постиндустриального общества Д. Белла в геополитический контекст, который сформировался к 1970-м гг. Он определяет формирующееся общество как «технотронное», по сути актуализируя новый концепт, претендующий на выявление смысла глобализации [7]. Термин «технотронное общество», по мнению автора, лучше выражает сущность изменений, чем термин Белла, отражая влияние новой техники и электроники на культурное, психологическое, социальное и экономическое развитие общества. В границах технологического подхода Бжезинский развивает мысль о том, что технотронная революция, носящая не локально-территориальный, а глобальный характер, и постепенно охватывающая весь мир, накладывает свой отпечаток на характер образного восприятия действительности – у людей формируется новое глобальное видение мира. На этой основе формируется единое мировое сообщество, преодолевшее конфликты и антагонизмы. В мире останется последний из них: между развитыми и неразвитыми странами, причем государствам, приблизившимся к "технотронной эре", следует оказывать необходимую посильную помощь остальным государствам для создания единого мирового сообщества. Несмотря на серьезную критику и противоречивость идей, Бжезинский раскрыл новый аспект постиндустриальной теории, связанный с глобальным характером происходящих изменений, рассматривая постиндустриализм предвестником глобализации.
Анализ дискурса постиндустриализма в целом свидетельствует о преобладании, с одной стороны, позитивных взглядов в отношении практики постиндустриального развития стран первого мира, воспринимаемой чаще всего как единственно возможной, и неоднозначном отношении научного сообщества, с другой стороны, к концепции постиндустриального общества и различным ее вариациям, тесно переплетенны- ми с главными темами описания общества постмодерна. В западной и отечественной литературе, посвященной постиндустриальной проблематике, представлены позиции как многочисленных сторонников, так и серьезных критиков.К их числу относится уже упоминавшийся нами Ф. Уэбстер, который полагает, что доктрина постиндустриализма выступает как излишне объективистская, не опирающаяся на анализ причин того развития, которое привело к становлению индустриального, а позднее и постиндустриального общества. Целый ряд критично настроенных российских исследователей, с разной степенью негативности, высказывают замечания по поводу неадекватности концепта «постиндустриальное общество» современной социальной практике. По мнению И.Я. Левяш, «…в противоположность любой научной процедуре, не модель сопоставляется с реальностью, а наоборот, и это реальность будущего, которая менее всего поддается верификации» [7, 153]. Еще более острая критика В.С. Цаплина обращает внимание на общий для футурологических концепций недостаток, связанный с социальным дарвинизмом и оторванностью теоретических конструкций от реальности [8]. Характеризуя философскую и идеологическую основу постиндустриального общества как постмодернизм, фиксирующий ментальную специфику современной эпохи, В.Г. Наймушин видит эту специфику в плюралистичности проблемного поля и отказе от самой возможности создания теории, претендующей на парадигмальный статус [9]. Однако при всем различии позиций и идеологических предпочтений, большинство аналитиков подтверждают продуктивность и актуальность идей постиндустриализма, хотя и высказывают необходимость объяснения ряда процессов, оказавшихся за пределами прогнозов классической постиндустриальной теории. В условиях интенсификации происходящих изменений теоретическая мысль подчас не успевает дать им релевантную оценку. В связи с этим существует значительное количество проблем, требующих решения, что вполне естественно, когда речь идет о современности, а не об исторически устоявшемся явлении. Мы согласны с позицией В.Л. Иноземцева в том, что теория постиндустриализма в большей степени является методологической основой для разработки новых концепции и в меньшей степени выступает теорией, описывающей новые реалии.
Таким образом, завершая оценку современного статуса теории постиндустриализма, отметим, что, возникнув как частная теория в 60-е гг. прошлого века, в современной науке она выступает в качестве методологической парадигмы (метатеории), на базе которой происходит развитие широкого спектра концепций. Ей нельзя отказать как в достаточной убедительности в теоретическом плане, так и в отражении реальных процессов, разворачивающихся в мире и в отдельных странах. Привлекательность постиндустриальной концепции состоит в том, что она подается как проблемное построение, открытое для существенных дополнений и интерпретаций, открывающее широкие исследовательские перспективы. Многочисленные концепции, построенные на методологической основе постиндустриальной теории, имеют право на существование и представляют собой описание процессов и возможных тенденций развития и трансформации социально-экономических систем на постиндустриальном этапе развития цивилизации.