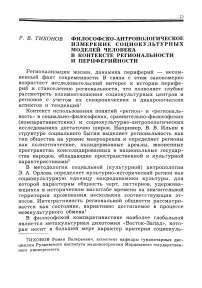Философско-антропологическое измерение социокультурных моделей человека в контексте региональности и периферийности
Автор: Тихонов Роман Валерьевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Теоретические проблемы регионологии
Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются философско-антропологические аспекты регионального и периферийного (в рамках социокультурной целостности) на примере методологии сравнительного анализа социокультурных моделей человека.
Короткий адрес: https://sciup.org/147223016
IDR: 147223016
Текст научной статьи Философско-антропологическое измерение социокультурных моделей человека в контексте региональности и периферийности
Регионализация жизни, динамика периферий — несомненный факт современности. В связи с этим закономерно возрастает исследовательский интерес к истории периферий и становлению региональности, что позволяет глубже рассмотреть взаимоотношения социокультурных центров и регионов с учетом их синхронических и диахронических аспектов и тенденций1
Контекст использования понятий «регион» и «региональ-ность» в социально-философских, сравнительно-философских (компаративистских) и социокультурно-антропологических исследованиях достаточно широк. Например, В. В. Ильин в структуре социального бытия выделяет региональность как тип общества на уровне макроареала и определяет регионы как полиэтнические, полидержавные ареалы, жизненные пространства консолидированных в национальные государства народов, обладающие пространственной и культурной характеристиками2
В методологии социальной (культурной) антропологии Э. А. Орлова определяет культурно-исторический регион как социокультурную единицу макродинамики культуры, для которой характерны общность черт, паттернов, удерживающихся в историческом масштабе времени на значительной территории проживания нескольких соответствующих этносов. Интегративность региональной общности рассматривается как состояние, вариативно достигаемое в процессе межкультурного обмена3
В философской компаративистике наиболее глобальной является метакультурная дихотомия «Восток-Запад», которая носит в большей мере характер критерия социокуль-
ТИХОНОВ Роман Валерьевич, ассистент кафедры гуманитарных дисциплин Рузаевского института машиностроения Мордовского государственного университета.
турной соотнесенности и дифференциации, в том числе по отношению к понятиям «регион» и «периферия»4 В общем смысле речь идет о причастности к данному делению того или иного мирового региона и разнообразных геосоциокуль-турных периферий, тяготеющих к определенному структурирующему центру.
Проблема связана с тем, что в социокультурной среде современного мира, который по сути уже мультикульту-рен, человек находится в сложной ситуации поиска сфер и уровней идентичности. Самоопределение и самосознание как отдельного человека, так и этноса всегда имеют своей основой диалог и сравнение культур, т. е. по выражению К. Д. Кавелина — «сравнение себя с другими»5
Идентичность можно определить как «онтологическое убеждение (личности, группы, социосистемы), проявленное в процессе взаимодействия с некоторой инаковостью»6 Именно идентичность социокультурного субъекта на разных уровнях и процессы, связанные с ее динамикой, представляют основу большинства общественных движений современности.
В сравнительно-цивилизационной парадигме С. Хантингтона проводится тезис о том, что никакие социальные идентичности никогда не смешиваются, хотя, по мнению С. Переслегина, Хантингтон не приводит достаточных доказательств, что может быть, например, связано с тем, что в психологическом плане «цивилизационную идентичность люди рефлектируют и, тем более, проявляют крайне редко»7
Социокультурные общности формируют динамическую ситуацию «вызова» по отношению к миру, а варианты даваемых «ответов» зависят от творческих потенциалов периферий цивилизаций. Отмечая подобный закон взаимоотношения культурных систем, П. М. Иванов указывает, что «в поисках периферией ответов на этот вызов универсальных стратегий нет, как нет таких стратегий и в поведении центра»8 При этом следует заметить, что цивилизационная периферия может проявить уровневость в пределах социокультурной целостности только в форме региона, и именно такая оформленность дает возможность структурированного внутрикультурного диалога в рамках дихотомии «центр — периферия» с выходом на более высокий иерархический уровень межкультурного диалога.
В личностном плане постановка вопроса о сравнении совместимых и несовместимых параметров социокультурных моделей человека различных культур позволяет понять воздействие ценностей других культур на собственную духовную основу. Подобный подход может быть перенесен во «внутреннее» пространство социокультурной целостности и реализован в отношении интегративных оценок взаимодействия центра и регионов.
Реализуя принцип методологического холизма, можно рассматривать каждую культуру как отдельную социокультурную целостность (при этом внутренне структурированную на центральные («центр») и региональные («периферия») составляющие). Интегративно-деятельностный подход к пониманию общества как единства культуры и социальности конкретизирован в использовании категории социокультурного. Понимание культуры как целостности позволяет анализировать диахронные изменения культурно-исторических типов в их эволюционном развитии. Социокультурные общности, предстающие в истории как целостности, порождают типические именно для них социокультурные модели человека.
Характеристика системных основ социокультурной модели человека конкретной исторической эпохи задается синхронным анализом и выявлением матрицы оснований. Конкретное наполнение «ячеек» оснований обеспечивается за счет того, что в основе доминирующих социокультурных моделей любого культурно-исторического типа лежат базисные константы социокультурных целостностей.
По выраженности антиномических несовпадений по отдельным основаниям социокультурных моделей человека можно судить о наличии, характере и степени несовместимости моделей, не только представляющих различные взаимодействующие культуры, но и презентирующих «центр» и «периферию», «центр» и «регионы» в пределах одной социокультурной целостности любой степени общности (семья, группа, социальный институт, организация, локальная культура, этнокультура, страново-региональный, глобальный социальный уровень). Начинается все в любом случае с человека.
Большое значение, особенно в плане философской компаративистики, культурологического сравнения, оценки диалога культур, имеет представление об определении нормативно-ценностного пространства социокультурной целостности. Дополнительным методологическим аспектом является то, что аксиологический континуум (нормативно-ценностное пространство) также структурирован на «центр» и «периферию», т. е. имеет характерную для данной общности иерархичность базисных констант.
Указывая актуальность подобного структурирования в сравнительно-философских исследованиях, А. С. Колесников выделяет центральную часть нормативно-ценностного пространства (ядро, образованное нравственно-религиозным и эстетико-традиционным компонентами), периферию (политико-правовой и экономико-институциональный аспекты) и наиболее интегративный в поликультурном диалоге научный компонент9
Диахронная динамика может быть развернута в применении философской (философско-антропологической) категоризации по отношению к человеку в аспектах всеобщего, общего, конкретно-абстрактного, особенного и уникального (единичного)10
Категория всеобщего раскрывает аспект всеобщего в человеке, трактуя человека как существо биосоциокультур-ное. Как пишет В. В. Ильин, рассматривая составляющие этого понятия: «Биологическая компонента поставляет натуралистические (анатомия, физиология), социально-деятельностные (интеракция, коммуникация, культурная компонента — ценностно-информационные (внебиологическое символическое кодирование, трансляция продуцируемой в обмене деятельностью идеально-смысловой формации), предпосылки возникновения, упрочения Homd sapiens»11 В философско-антропологическом плане человек выступает как потенциально-всеобщекультурный субъект социальной деятельности. В социокультурном преломлении применение категории всеобщего означает тождество макрокосма социокультуры (культуросферы) и микрокосма человека.
Категория общего реализует всю полноту системных интенций социокультурной целостности, т. е. выступает в каждый исторический период как культурно-типическая утопия (цель), реализуемая в действиях социокультурных субъектов разных уровней. Это то понимание человека, каким он должен и может быть при реализации социо- культурной традиции в ее основных целях, задачах и тенденциях.
Конкретно-абстрактное отражает консервативно-традиционалистский аспект, т. е. установку на реализацию потенциальной социокультурной значимости консервативного понимания иерархии базисных ценностей культурно-типическими субъектами.
Категория особенного представляет аспект индивидуального человека, потенциально воплощающего полноту куль-туро-типичности в ограниченности культурно-исторического локуса и собственного психологического типа.
Единичное отражает аспект уникально-личностного в человеке, реализующего сочетание индивидуально-психотипических и уникально-психических детерминант. Использование этой категории проясняет уникальную социокультурную самотож-дественность человека на уровне социомира повседневности.
Философско-антропологическая категоризация крайне важна в плане прояснения сущностных основ человеческой деятельности, типов связи человека и общественного мира. Применяя философское абстрагирование к целостному взаимодействию человека и социума, выявляя уровни и грани их взаимозависимости, можно глубже понять характер социокультурных взаимосвязей, что способствовало бы разработке методологии сравнительного анализа системно-абстрактных моделей, относящихся к социокультурам различного генезиса и уровня, а также созданию моделей внутренних взаимодействий человека и социокультурной общности.
Сложность направления исследований целостных миров культуры и социума заключается прежде всего в сочетании требования интегративности со сравнительно-аналитическим подходом, поскольку здесь представлено пересечение предметно-методологических полей социальной философии, философской антропологии, философии культуры, культурологии и философской компаративистики.
Контекст философско-антропологического содержания не ограничивается реальностью, единственной данностью общественного мира, социокультурного мира той или иной общности. Сложная социокультурная система, мир социума представляют собой «множество возможных вариантов развития, обладающих разными шансами реализации, это и соотношение явленного и неявленного, сбывшегося и не- сбывшегося. Иначе говоря, мир общества — это как бы сосуществование двух миров фактуального единственного мира и целого набора параллельных возможных миров, это данности и вариативности, реальности и возможности, реальности и потенциальности, явленности и неявленности, сосуществование сбывшегося и несбывшегося»12
Реализованность культурного потенциала социума зависит от множества факторов, прежде всего, особенностей исторического развития конкретной социокультурной системы, тех «вызовов», которые она получает от окружающего мира и социокультурных общностей различного уровня. «Ответ» социокультурной целостности детерминирован, кроме объективно-исторических условий, тем сочетанием потенциальных возможностей доминантных и альтернативных моделей человека, которые до периода попадания социума в переходную область выбора пути дальнейшего развития не имели реального воплощения.
Прогностическое моделирование «ответов», касающихся регионов и периферий, также обладает философско-антропологическим измерением и может сочетать установку на общее (в виде идеальной модели желаемого будущего) и конкретно-абстрактное (в виде традиционалистских тенденций), представленное, например, в идеологии отечественного динамического консерватизма13.
Принимая во внимание синергетическую парадигму, можно утверждать, что влияние индивида на макросоциальные процессы в определенные периоды развития социокультурных систем значительно возрастает. В философско-антропологическом ключе проблема может быть рассмотрена, по мнению В. С. Барулина, в духе антиномии локальной свершенности и беспредельной потенциальности человека14 В силу этого актуальным становится рассмотрение возможностей реализации потенциальных тенденций, заложенных в основаниях социокультурных моделей человека той или иной социокультурной общности и ее иерархических образующих. То, что социокультурные целостности могут быть интерпретированы как динамические неравновесные системы, в их истории находит отражение в том факте, что периоды сильной централизации могут сменяться переходными периодами слабой централизации, оказывающимися для культуры эпохами социального хаоса.
Последствия динамики процессов перехода социокультурной целостности от одного состояния к другому оказывают влияние на доминантные и альтернативные модели в плане социокультурной самоидентификации. Это показано, например, в исследованиях Г. П. Федотова, посвященных историческим типам человека в русской культуре (человек Киевской Руси, человек периода монголо-татарского завоевания, человек новгородской демократии, человек Московской Руси, человек имперской России)15.
Выделенные Г. П. Федотовым типы поддаются интерпретации как большей частью диахронически проявленные социокультурные модели, характеризуемые базисными константами, определенной внутренней иерархией нормативно-ценностного пространства и реализующие духовный потенциал определенного социума. Направленность духовного потенциала может быть выражена философско-антропологической категорией (всеобщее, общее, конкретно-абстрактное, особенное и единичное), указывающей на тот или иной аспект понимания сущности социокультурной деятельности человека.
Комплексный классификационно-ценностный анализ подобного плана нацелен на рассмотрение социокультурных моделей человека, соотносимых с формируемыми центрами социокультурной общности.
При достаточно стабильном существовании и целостности социокультурные общности, взаимодействуя между собой, вовлекают также в эти взаимодействия и свои иерархических уровни (центры, периферии, оформленные регионы). Возможным последствием этого является «формирование в них единого ядра культуры, вбирающего в себя характерные для них особенности, и которое, независимо от последующего взаимодействия контактировавших между собой периферий, навсегда связывает их между собой, детерминируя образование нового, ранее не существовавшего нормативно-ценностного пространства»16.
Подобное единое нормативно-ценностное пространство, в свою очередь, является как полем проверки совместимости оснований как социокультурных моделей человека взаимодействующих общностей, так и возможным локусом становления социокультурной целостности нового типа.
При разработке общей методологии сравнения и более детальном рассмотрении сущности региональности целесо- образно ввести категорию «гена социокультурной идентичности провинции», который бы представлял регион и периферию в историко-культурологической категории провинции как определенную социокультурную общность, обладающую целостно-интегративными характеристиками в пределах социокультурной целостности более высокого порядка. Ген социокультурной идентичности провинции характеризуется интегративной системой основ, представленных образованием (школы и вузы), легитимно-институциональным комплексом (право и структурированная религиозная жизнь), конкретным воплощением социокультурной общности (местная община в широком понимании) и самоактуализацией социокультурного субъекта, его духовно-творческой реализуемостью как в отношении окружающего локального социомира, так и в отношении мировой культуры.
Существенным аспектом задействованности гена социокультурной идентичности провинции является реализация духовного потенциала региональности при сохранении социокультурной идентичности периферии как своеобразной культурной целостности. Несмотря на глобализационные тенденции, разноуровневая социокультурная идентичность является мощным фактором мировой динамики, поэтому так значимо понимание региональной философско-антропологической проблематики в комплексных программах по сохранению, развитию регионов, а также по регионообра-зованию.
Таким образом, имеется необходимость учета философско-антропологических смыслов при взаимодействиях в рамках парадигматики «периферия-центр». Это важно в плане воздействия центра на периферию и периферии на центр, особенно в интегративно-региональном случае, что часто остается методологически недооцененным и не подвергается сравнительному анализу. В частности, необходима разработка стратегии взаимодополнительности образовательных кластеров, т. е. учет требований конкурентоспособности в социокультурной среде (на самых различных уровнях, начиная с диалога культур, межцивилизационных, межнациональных взаимодействий вплоть до уровня адекватной оценки социомира повседневности). При этом подобные стратегии следует проводить исходя из адаптивных и креативных возможностей, даваемых стандартами систем среднего и высшего образования, в сочетании с различными вариантами региональных этнопедагогик (с глубоким философско-антропологическим анализом их культурного потенциала).
Список литературы Философско-антропологическое измерение социокультурных моделей человека в контексте региональности и периферийности
- Зусин А. Э. Социокультурное развитие Мордовии. Вторая половина 1960-х -середина 1980-х гг. Саранск, 2006. С. 8.
- Философия: Университетский курс/Под общ. ред. проф. С. А. Лебедева. М., 2003. С. 311.
- Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология. М., 2004.. 467.
- Колесников А. С. Философская компаративистика: Восток-Залад. СПб., 2004.
- Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 255.