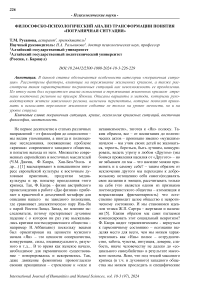Философско-психологический анализ трансформации понятия «пограничная ситуация»
Автор: Русанова Т.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Психологические науки
Статья в выпуске: 10-3 (97), 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье обозначаются особенности категории «пограничная ситуация». Рассмотрены факторы, влияющие на переживание жизненных кризисов, а также рассмотрена такая характеристика пограничных ситуаций как невозможность ее преодоления. По итогу нами был осуществлен анализ осмысления и переживания жизненных кризисов странами восточных регионов на примере Японии. Описаны варианты и методы, которыми руководствуются жители заявленного региона, намечены перспективы, которые позволят принимать и осмыслять переломное жизненное событие не только на уровне личности, но и на уровне социума.
Пограничная ситуация, кризис, психология кризисных ситуаций, восточная философия, ментальность
Короткий адрес: https://sciup.org/170207480
IDR: 170207480 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-10-3-226-229
Текст научной статьи Философско-психологический анализ трансформации понятия «пограничная ситуация»
Не первое десятилетие в статьях различных направлений - от философии до социологии -мы видим упоминания, а иногда и полноценные исследования, посвященные проблеме «кризиса» современного западного общества, и попыток выхода из него. Множество современных европейских и восточных мыслителей (Ч.М. Джеин, Ф. Капра, Хан-Бен-Чхоль и др...) [1] высматривают в повышенном интересе европейской культуры к восточным духовным практикам, продуктам медиакультуры и пр. попытку преодоления этого кризиса. Так, Ф. Капра - физик австрийского происхождения в работе «Дао физики» прибегает к красочной и доходчивой метафоре для описания нашего не завидного положения, где сравнивает диалектическую пару Инь-Ян с парой Восток-Запад. Запад, по мнению исследователя, потому претерпевает духовное падение ( о котором ни раз уже высказывались критики постмодернистского общества -например Н. Аббаньяно) поскольку веками был ориентирован на ценности мужского начала «Ян» - это ценности соперничества, конкуренции, силы, индивидуального, разумного и т.д… В то время как женское начало, необходимое для гармоничного существование - игнорировалось и искоренялось. Так, даже движение феминизма провозгласило своими принципами - стремление к «силе и независимости», тяготея к «Ян» полюсу. Таким образом, все - от воспитания до политических актов - пронизано именно «мужским» началом - мы учим своих детей не жаловаться, терпеть, бороться, быть лучшим, конкурировать, видеть угрозу в любом «Другом» (мы боимся проявления насилия от «Другого» - но не забываем ли мы - что насилие можно применять и к самому себе? - таким образом от исключения другого мы переходим к добровольному истощению себя самого)подавлять свои желания и эмоции, рассчитывать только на себя (что является одним из признаков постмодернистского общества - атомизация и возрастающая фрагментарность) что естественно приводит целое общество к невротическому состоянию. И мы становимся идеалом тезиса Ж.П. Сартра - жертвами и палачами [5]. Каким образом мы сами пытаемся компенсировать этот социальный невротизм? Ф. Капра видит терапевтическим - вернуться к гармоничному состоянию - осознанно выделяя место для всего, чем мы можем характеризовать как «Инь» полюс - сотрудничество, забота, чувства, интуиция, доверие, слабость, иначе человечеству не далеко до «социального самоубийства» в результате массового психоза. Ясно, что под эгидой массового кризиса (в т.ч. и духовного) западного общества мы можем проследить и специфические изменения такого фундаментального опыта бытия любого человека - как его неминуемая встреча с пограничной ситуацией - поскольку нельзя не заметить тенденцию для которой свойственно называть пограничными -огромное количество человеческого опыта, в то время как, например, для древнего грека или самурая пограничными были довольно ограниченное количество вещей - война, позор, болезнь, встреча со смертью. Сейчас -причин, например для суицидального поведения (а так мы можем довольно точно промаркировать встречу человека с непреодолимым кризисом, покушающимся на человеческую систему ценностей) - стало, будто, в сотни раз больше - от смерти любимого артиста до тотального одиночества или хронического стресса. Теперь пограничные ситуации - все меньше взывают человека к диалогу с собственной душой, вызывая только апатию и пассивность. Итак, сталкиваясь с пограничной ситуацией - преодолевает ли современный человек те же беды - что и человек двести, триста, то и три тысячи лет назад? Несомненно, классика войны или чумы - с нами навсегда, но что же за новые кризисы заставляют человека задумываться о преждевременном окончании собственной жизни? Тема «пограничных ситуаций» - как трансформационных событий в нашей жизни - представляет интерес для психологов и философов не первое десятилетие, открывая для читателей, казалось, банальные, рецепты преодоления жизненных трудностей «не согнувшись» и выхода на иной уровень бытия. Однако, в то же время ясно что, несмотря на, с одной стороны, довольно частое обращение к заявленной нами проблематике, угол зрения исследователей скорее сосредоточен как раз на методах преодоления переломных моментов, но куда реже на саму пограничную ситуацию, к ряду которых причисляют скромный список. Между тем, современный человек оказывается в состоянии тяжелого кризиса не всегда соприкасаясь именно с этим ограниченным списком переломных моментов, актуальных, скорее для периода ХХ века ( когда, в прочем, люди действительно столкнулись со всем перечисленным практически в контексте одного поколения).
В понимании отношения к пограничной ситуации именно жители востока помогут нам вынести для себя терапевтический урок. На долю, например, японского народа пришелся довольно широкий спектр серьезных культурных, исторических, природных потрясений и катастроф, однако японскую ментальность можно характеризовать трогательным и бережливым отношением к тому, что они имеют, но в то же самое время - потеряв все (в результате войн, природных происшествий и пр.) - они смотрят на возникшую пустоту -как на свободное место для чего то нового (Как отмечал С. Аванесов) [6]. В то время как западноевропейский человек не выносит пустоты совершенно, потеряв всякую созерцательность, и приобретая почти разрушивший нас страх перед всяким изменением, которым мы гордимся, считая призрачное постоянство нашим главным владением. Ничтожно и по европейски-высокопарно будут звучать всякого рода комментарии, о том, что японское общество было детерминировано исключительно обстоятельствами, сформировавшими именно такое отношение к миру, к бытию, к проблеме этой вездесущей реки, в которую нельзя войти дважды. Вспомним, к примеру, даже опыт Второй мировой войны, в которой Япония - являлась и страной проигравшей и одной из наиболее пострадавших, поскольку ужасающий опыт испытаний оружия массового поражения пришелся именно на этот народ. Однако, нельзя не заметить колоссального развития Японии поствоенного времени, развитие затронувшее, пожалуй, все сферы общественной жизни. В то же время, некоторые страны коммунистического лагеря десятки лет не могли выбраться из послевоенного кризиса, и, несмотря на то что война была закончена, не смогли преодолеть травму, нанесенную этими событиями, до конца вынести этот опыт. Таким образом будем уверены, что японская ментальность, мировоззрение и философия формировались не только под гнетом травматизма, но и в результате особого типа созерцательного мышления, воспитания, сохранения многовековых традиций и особого – бережного и пантеистического отношения к миру.
Если говорить о осмыслению пограничной ситуации в наше время, то становится ясно, что в обществе «быстрого дофамина» и «всеобщего позитива» - кризис рассматривается уже не как необходимая ступень в переходе от онтического к онтологическому – от центрирования на мире вещей (‘мир’ обладания у Г. Марселя) [8] к обращению своей души к «миру идей» – а как злая шутка, укол судьбы в мире, где вокруг транслируют быстрое удовольствие и сиюминутное исполнение желаний. Готов ли человек в эпоху тотального принятия себя таким какой есть – качественно меняться? Сейчас для нас пограничная ситуация скорее открывается как перспектива «метафизической смерти» (М.Ю. Трофимов) [9] – при которой человек не готов пускать новые обстоятельства в свою жизнь, противостоит им, однако в то же время, выбора у него нет, поскольку в пограничной ситуации – един- ственное что остается человеку – роль пассивного наблюдателя, которую необходимо принять. М.Ю. Трофимов в этом контексте вспоминает цитату Лао-Цзы: «Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить». Виталь- нии танатальной ориентации (метафиз. смерти) – логичным образом теряется. Комплекс указанных нами факторов и формирует повальный кризис при преодолении тех или иных пограничных ситуаций, которые, более того, множатся в геометрической прогрессии по сравнению с периодом средневековья в азиатских странах – где поводом для ативи-тального поведения было не так много вещей. Кажется, Ф. Ницще очень точно уловил и нашу особенность, характеризуя человека своего времени – ведь и для нас тоже «укус комара кажется слишком кровавым» [10].
Однако, нельзя не заметить и иной тенденции - не исчезает, и, более того, стремительно растет уровень осознанности человека, желание преодолеть кризис, который способен медленно отравлять жизнь годами и десятилетиями. Один из методов такого преодоления и переосмысления ценностей – как раз и является обращение к восточным традициям.
ное желание человека, оказавшегося в состоя-
Список литературы Философско-психологический анализ трансформации понятия «пограничная ситуация»
- Капра Ф. Дао физики. - М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2017. - С. 17-29.
- Хан-Бен Ч. Общество усталости. - М.: «АСТ», 2024. - С. 24.
- Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм. - М.: «Алетейя», 1970. - С. 214-223.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм. - М.: «Политиздат», 1989. - С. 319-344.
- Сартр Ж.-П. Тошнота: избранные произведения / пер. с фр. С.Н. Зеникин. - М.: Республика, 1994. - С. 9-40.
- Аванесов С.С. Философская суицидология: курс лекций. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studfile.net/preview/400833/.
- Аванесов С.С. Самоубийство как философская проблема, автореферат на соискание ученой степени. - Т., 1994. - С. 12-18.
- Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 1995.
- Трофимов М.Ю. Метафизическое рождение и метафизическая смерть в пограничной ситуации // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2011. - №349. - С. 60-63.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Сочинения: В 2 т. - М., 1998. Т. 2. - С. 9.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. - С. 53-68.
- Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. - М., 1990. - С. 19-20.