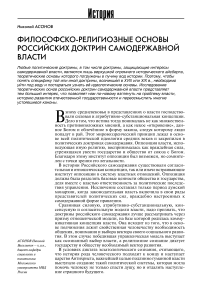Философско-религиозные основы российских доктрин самодержавной власти
Автор: Леонов Николаи Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2008 года.
Бесплатный доступ
Любые политические доктрины, в том числе доктрины, защищающие интересы самодержавной власти, являются лишь верхушкой огромного исторического айсберга, теоретические основы которого погружены в пучину вод истории. Поэтому, чтобы понять специфику той или иной доктрины, возникшей в XVIII или XIX в., необходимо уйти под воду и постараться узнать её идеологические основы. Исследование теоретических основ российских доктрин самодержавной власти представляет тем больший интерес, что позволяет нам по-новому взглянуть на проблему власти, историю развития отечественной государственности и переосмыслить многие устоявшиеся каноны.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169213
IDR: 170169213
Текст научной статьи Философско-религиозные основы российских доктрин самодержавной власти
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКИХ ДОКТРИН САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ
Любые политические доктрины, в том числе доктрины, защищающие интересы самодержавной власти, являются лишь верхушкой огромного исторического айсберга, теоретические основы которого погружены в пучину вод истории. Поэтому, чтобы понять специфику той или иной доктрины, возникшей в XVIII или XIX в., необходимо уйти под воду и постараться узнать её идеологические основы. Исследование теоретических основ российских доктрин самодержавной власти представляет тем больший интерес, что позволяет нам по-новому взглянуть на проблему власти, историю развития отечественной государственности и переосмыслить многие устоявшиеся каноны.
В эпоху средневековья в представлениях о власти господствовали силовая и атрибутивно-субстанциональная концепции. Дело в том, что истина тогда понималась не как множественность противоположных мнений, а как некое «откровение», данное Богом и облечённое в форму закона, следуя которому люди попадут в рай. Этот мировоззренческий принцип лежал в основе всей политической идеологии средних веков и закрепился в политических доктринах самодержавия. Оппозиция власти, исповедующая иную религию, воспринималась как враждебная сила, стремящаяся увести государство и общество от союза с Богом. Благодаря этому институт оппозиции был возможен, но сомнителен с точки зрения его легальности.
В истории Российского самодержавия существовали согласительная и отношенческая концепции, так или иначе встраивающие институт оппозиции в систему властных отношений. Оппозиция должна была разделять базовые ценности общества и государства, деля вместе с властью ответственность за политические последствия управления. Исключение составлял только период думской монархии, когда законодательная власть включила в свои ряды представителей политических сил, враждебно настроенных к самодержавной форме правления.
АСОНОВ Николай Васильевич – к.и.н., доцент кафедры социологии и политологии Московского университета МВД России
Сравнивая силовую, атрибутивно-субстанциональную, консенсусную и согласительную модели власти, надо признать, что доктрины российского самодержавия лучше рассматривать через призму отношенческой модели, на базе которой родилась коммуникативная концепция власти. Она исходит из того, что в основе подчинения лежит свойственная человечеству необходимость общения, понимания и выбора вектора своего социального развития. В этом случае победившая управленческая модель выступает как осознанный выбор власти, а религиозное сознание диктует государству и обществу необходимый вектор развития.
В условиях диктата эсхатологического сознания, считающего, что история рода человеческого подходит к концу и наступает царство Антихриста, важнейшей целью подлинно гуманной власти выступало создание такой политической системы, которая могла помочь человеку не только спасти душу, но и отдалить наступление страшного будущего.
Власть, способная задержать движение к царству Антихриста, воспринималась обществом как угодная Богу. Ей, как и в случае с опричниной, опасаясь разрушения православной государственности, общество могло делегировать широкие полномочия. Так, идея тотальной борьбы с наступающим злом в доктринах российского самодержавия нового времени, как и в эпоху средних веков, неизбежно принимала консервативный характер.
Теория соборности, сформулированная в наши дни митрополитом Иоанном (Снычевым), и родственная ей теория органицизма Э. Бёрка1, дающие понимание славянофильских представлений о самодержавной соборности, исходят из признания несовершенства человека, в котором господству ет зло. В России политические доктрины самодержавия весьма настороженно относились к переносу вечевых традиций на всю вертикаль государственной власти. В православном государственном управлении сословное представительство выступало политической формой демонстрации единства и совета государства и общества по ключевым вопросам «реализации намеченных целей», что можно трактовать как «соли-даристский» тип государственной власти, признающий её божественную природу и договорной характер. Такая постановка вопроса отчасти роднит теории соборности, солидаризма и органицизма с теорией культурного консерватизма группы Солсбери, доказывающей, что «ценность индивидуальной свободы не абсолютна, а подчинена … более высокой ценности – правительственной власти»2. Однако наличие этих элементов, присущих политическим доктринам российского самодержавия, не даёт его целостной характеристики без учёта той исторической особенности, которая составляла основу институциональной структуры всех православных стран. Она состоит в социально-политической солидарности светской и духовной власти, утверждённой решениями Пятого Вселенского собора в середине VI в.
В VI новелле «Свода гражданского права» императора Юстиниана данный принцип получил название «симфония двух властей». Он предусматривал разграничение полномочий каждой из ветвей власти и подчинённых им социальных групп, а также взаимный контроль между ними. Эта новелла гласила: «Величайшие дары Бога – священство и царство. Первое служит делам божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба происходят от одного источника (Бога)».
Эти положения вошли в византийский «Номоканон». В XIII в. он лёг в основу главного юридического сборника Московской Руси – «Кормчей книги», повлиявшей на формирование самодержавной власти. Её вторым теоретическим источником стали труды византийского патриарха Фотия, жившего в IX в. Во втором титуле своей «Исагоги» «О васи-левсах» он определял царя как «законную власть», действующую для общей пользы. Она обязана охранять Святое Писание, догматы главных Вселенских соборов и только потом светские законы. Царь должен отличаться приверженностью православию и благочестием.
В доктринах самодержавия принцип «симфонии» нашёл своё отражение в создании первого (духовенство) и второго (дворянство) сословий, которым доверялась власть в государстве.
|
II сословие |
I сословие |
|
царь / император |
Патриарх / Папа |
|
великие князья / короли |
митрополиты / кардиналы |
|
удельные князья / герцоги, графы |
архиепископы |
|
бояре / бароны, виконты |
епископы |
|
помещики – дворяне / рыцари |
приходские священники |
Касаясь представлений о государстве, в интересах которого создавались доктрины, защищающие самодержавную власть, следует отметить, что взгляд на этот ведущий политический институт в то время совпадал со взглядом на власть. Это объясняется тем, что тогда, как и сейчас, государство воспринималось в качестве основного орудия политической власти, которое служит её конкретным интересам и организует жизнь общества согласно этим интересам.
Понимание природы государства уже на заре средневековья стало целиком соответствовать «органической» теории, основы которой, как известно, были впервые разработаны ещё Платоном и его учениками. Данная теория была вписана в «теологическую» теорию происхождения власти и государства. Она берёт своё начало в более ранних политических представлениях, относящихся к религиозно-мифологическому периоду, когда любой социальный процесс трактовался с точки зрения божественного промысла. Подобные трактовки были характерны для всех древних цивилизаций, но лишь иудейская трактовка, опиравшаяся на принципы монотеизма, представляла интерес для христианских богословов, изучавших вопросы власти и государства.
В основу «теологической» теории происхождения государства и власти христианская политическая мысль положила книги Ветхого Завета. Они раскрывали историю создания государства Израиль как государства нового типа, возникшего благодаря союзу человека с единым Богом. Новизна такого государства заключалась в том, что его политическая система видела свою главную функцию в создании отношений, способных помочь людям спасать свои души, научить их быть лучше, тогда как языческие государства ориентировали своих граждан на то, чтобы жить лучше. Тем самым было проведено первое разделение государств на «правильные» и «неправильные», то есть помогающие и мешающие спасению души.
С опорой на книги Ветхого Завета было разработано учение о неизбежной деградации «правильного» государства в «неправильное». Считалось, что в основе данной деградации лежит господство зла в людях, порождённое их несовершенной природой, поэтому люди склонны к материальным соблазнам в ущерб духовному совершенству. Это ведёт власть и общество к извращению принципов «правильного» государства. Данные положения по своему смыслу были близки учению о государстве Платона и Аристотеля, которым политический мир казался искажённой копией мира идей, виной чему был несовершенный ум человека, ведущий к неизбежному вырождению «правильных» форм правления в «неправильные».
На этом общие подходы к пониманию государства у платоновско-аристотелевс- кой и христианской школ заканчивались. Если у Платона идеальное государство формируют три схожих элемента, представленных совещательным, защитным и деловым началами, то христианская политическая мысль трактует «трёхмерную структуру» творения Божьего иначе. Она соответствует Миру, Церкви и Израилю как государству, действующему в согласии с божественной волей. Идеальное государство понимается как союз общества, духовной власти и государства, во главе которого стоит представитель светской власти (царь).
Кроме того, у Платона и Аристотеля царская власть лежит в основе лучшей модели государственного устройства, тогда как для христианина идеальным типом организации государства была не монархия во главе с царём-философом, а ветхозаветное судейство, описанное в «Книге Судей». Только оно соответствовало «единственной истинной теок-ратии»1. При такой форме организации государства власть действовала не путём принуждения, а силой своего авторитета, сообщаемого ей «Божественной санкцией». Причём осуществление властью своих функций было возможно только в том случае, если вера в Бога в обществе была весьма сильной и носила массовый характер.
Переход к монархии указывал на ослабление веры в Бога в обществе и во властных структурах, ставших «уклоняться в корыстьисудитьпревратно»2.Ослабление внутренних нравственных норм в людях вело к необходимости ужесточить закон и заменить «Царя Незримого» царём зримым (земным), наделив его власть карательной функцией и методами силового принуждения, которые заметно ограничили круг социальных свобод граждан. Такая модернизация государственного управления должна была сдержать дальнейшее грехопадение людей.
Демократическую организацию государства христианская политическая мысль считала ещё более удалённой от Бога. Согласно православному взгляду, демократия, в отличие от судейства и монархии, вообще «не ищет Божественной санкции власти. Она представляет из себя форму власти в секуляр- ном обществе, предполагающую право каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посредством выборов»1. Тем самым в демократических государствах воля любого дееспособного человека ставится выше божественной воли и церковного права. Кроме того, демократия в христианстве никогда не рассматривалась как некий процесс социально-политического развития государства, далёкий от своего завершения. Демократия понималась как некое почти универсальное средство (политический инструмент), с помощью которого на земле должна утвердиться власть Антихриста.
В данной связи авторы некоторых книг Ветхого и Нового Заветов, а вслед за ними представители христианской патристики, выделяли ряд стадий (эпох) деградации монархических государств, которые пройдёт человечество после гибели Израиля. Согласно толкованиям книги пророка Даниила Ипполитом Римским, таких стадий будет четыре. Это эпоха Вавилонского, Мидийско-Персидского, Греко-Македонского и Римского царств. В каждом из них власть и общество будут всё более и более морально разлагаться, пока Римское царство не произведёт на свет Антихриста, «который и восстановит царство Иудейское»2. Царство Антихриста станет торжеством абсолютного зла. Конец ему положит второе пришествие Иисуса Христа. После Страшного суда над людьми он создаст на земле последнее «Тысячелетнее царство». В нём возродится эпоха судей, но возглавлять его будет сам Христос как последний монарх.
С пришествием Христа политическая теория самодержавия стала увязывать свои представления о «правильном» и «неправильном» царстве. Согласно этим представлениям, утверждение в Римском государстве христианства положило конец «неправильному» языческому Риму и дало начало новому (второму) Риму. «Правильный» второй Рим заступил место Израиля «по божественному крещению» и стал вместо него «умом, взирающим на Бога»3. Таким образом, спасение душ подданных в таком государстве, как некогда в Израиле, становилось его главной социальной и политической функцией.
Российская монархия, после того как в XV в. все православные страны были покорены католиками и мусульманами, осталась последним, третьим Римом, стоящим на страже истины и подлинно духовных, а не материальных ценностей человечества. Её гибель рассматривалась как пролог к вырождению и гибели всей земной цивилизации. В данной связи появление вместе с теорией «Москва – третий Рим» предиката «самодержец» стало означать не только единственного, но и последнего правителя, наделённого самодержавной (последней истинной) властью, данной от Бога и связывающей человека с Богом. Любые доктрины, направленные на свержение самодержавной власти, как, например, доктрины «западников», представляющих либеральное и революционное направления политической мысли в России, считались порождением Сатаны, который прокладывал дорогу к власти своему сыну Антихристу. Отражение данной философско-религиозной позиции перешло из средневековья в политические доктрины всех сторонников самодержавной власти от «охранителей», вроде С.С. Уварова и К.П. Победоносцева, до славянофилов и их последов ателей.