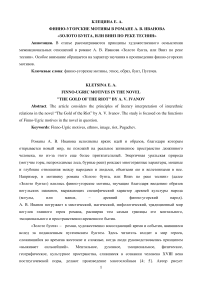Финно-угорские мотивы в романе А. В. Иванова "Золото бунта, или вниз по реке Теснин"
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются принципы художественного осмысления межнациональных отношений в романе А. В. Иванова «Золото бунта, или Вниз по реке теснин». Особое внимание обращается на характер звучания в произведении финно-угорских мотивов.
Бунт, образ, пугачев, финно-угорские мотивы, этнос
Короткий адрес: https://sciup.org/147249786
IDR: 147249786 | УДК: 8.82-31
Текст научной статьи Финно-угорские мотивы в романе А. В. Иванова "Золото бунта, или вниз по реке Теснин"
Романы А. В. Иванова исполнены ярких идей и образов, благодаря которым открывается новый мир, не похожий на реальное жизненное пространство дюжинного человека, но из-за этого еще более притягательный. Энергичная уральская природа (могучие горы, непроходимые леса, бурные реки) рождает многогранные характеры, мощные и глубокие отношения между народами и людьми, объятыми ею и вплетенными в нее. Например, в мотивику романа «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» (далее «Золото бунта») влились финно-угорские мотивы, звучащие благодаря введению образов вогульских шаманов, выражающих специфический характер древней культуры народа (вогулы, или манси, ‒ древний финно-угорский народ).
А. В. Иванов погружает в мистический, магический, мифологический, традиционный мир вогулов главного героя романа, расширяя тем самым границы его ментального, эмоционального и пространственно-временного бытия.
«Золото бунта» – роман, художественно воссоздающий время и события, явившиеся вслед за подавленным пугачевским бунтом. Здесь читатель входит в мир героев, сложившийся во времена жестокие и сложные, когда люди руководствовались принципом «выживает сильнейший». Ментальное, духовное, эмоциональное, физическое, географическое, культурное пространства, слившиеся в сознании человека XVIII века постпугачевской поры, делают произведение многослойным [4; 5]. Автор рисует необыкновенные уральские пейзажи; вводит тему веры и религии, сравнивая разные ветви православия и создавая свой «толк» - истяжельчество; рассказывает о жизни сплавщиков, бурлаков, пытарей, разбойников, военных, священников, старейшин; о национальном своеобразии жизни на Урале русских, татар, башкир, вогулов и других народов. В рамках настоящего исследования нас интересует характер звучания финно-угорских мотивов в романе.
Начиная с главы «Люди леса» разворачивается иной мир, который разнится с культурным и ментальным миром главного героя, но который органично сосуществует с ним: «Вогульская деревня Ёква десятком низких домишек и десятком чумов расползлась по берегу Чусовой в излучине. Над берестяными крышами высоко возносились тонкие мачтовые сосны. Косматое солнце слепило сквозь их ветхую хвою. Вдали по правую руку вставали над лесами три красноватых чела Собачьих Камней, словно старые небеленые печи. Огненно рябила речушка Ёква, бежавшая сквозь деревню и впадавшая в Чусовую. Ярко зеленела свежая трава на берегах, на склоне Собачьих Камней» [3, с. 63]. Автор воссоздает картины почти нетронутой живой и дышащей природы. Мы не видим ни заводов, ни фабрик, ни людской суеты. Лишь несколько небольших домиков, не нарушающих зеленую псевдоидиллию. Рука человека здесь не властная покровительница, она просящая и благодарная. Спокойствие и отчужденность вогульской деревни от русской суеты рождает обманчивое впечатление, будто ее не тронул смертоносный бунт. Кажется, что она существует в иной реальности, что, конечно, не так: пугачевщина прошла и через вогулов: «Ваш Пугач бешеный всю мою старость отравил хуже той ведьмы с Синего болота… Горе» [3, с. 70]. Но не только разрушающая сила бунта взломала естественную вогульскую жизнь, русские также оказали своё влияние.
Глава «Люди леса» открывает нам быт и жизнь вогулов, прорисовывая их черты и описывая их: «Двор Шакулы был охвачен шаткой изгородью: старик вогул натыкал так и сяк палок, прутьев, обломков жердей, перевил их двумя-тремя лещинами и тем был доволен. В ограде стоял и чум Шакулы, где старик жил, пока не донимали морозы. Повсюду на дворе валялись рваные полотна и закрученные полосы бересты, куски сосновой коры, ломаный сушняк для очага, угли, кости, щепки, глиняные черепки. К низким стенам были привалены связки тальника, длинные шесты, высокие долбленые ступы с круглыми пробками в дырах от сучков. На концах стропил висели мотки лыковых и березовых веревок и неразобранные упряжи. На крыше лежали вверх полозьями нарты; на сушилах и на ограде были растянуты сети с белыми прядями невыпутанных водорослей и гроздьями деревянных кибасьев. Шакула разметал свое немудрящее хозяйство по двору, не боясь воровства» [3, с. 64].
Вогулы живут иначе, чем русские, у которых в каждом доме у двери припрятано ружье. Вогулов не заботит то, что могут прийти воры. И это не потому, что в деревне их не бывает.
Национальный мир вогулов таинствен, не понятен русскому человеку. Вогулы – язычники и шаманы – поклоняются идолкам, которые, в свою очередь, служат им. Отсюда возможность сотрудничества с силами природы, которая щедро одаривает их. «Маленький» народ, владеющий духами леса и гор, живущий в гармонии с ними, парящий над землей и проникающий в ее глубины, способен управлять людьми, заточать или освобождать их души, хранящиеся в ургаланах.
Самые яркие образы вогулов в романе – старик Шакула и юная красавица Бойтэ. Они играют двойные роли. С одной стороны, представляют свой народ: впуская в свое жилище, открывают устройство вогульского мира, интересы национальной жизни, способы выживания: «Я (Шакула. – Е.К.) лесом живу, что он даст – то ем, тем пользуюсь, лишнее продаю. Лесом и хожу. На что мне река? Это не моя дорога. Это ваша дорога, русских, что без ума и страха» [3, с. 66]; «Шакула был ясачным вогулом и вправду жил лесом: бил зверя, ставил силки, собирал грибы, ягоды и травы, брал дикий мед и живицу, обколачивал кедры, драл лыко… А еще Шакула понемногу курил смолу и гнал деготь, плел вентери, корзины и морды, вертел клячемвитвины ‒ веревки из гибких виц, резал из сучков клевцы на бороны, гнул пестери, туеса и коробы, мастерил из бересты обувь ‒ верзни, бахоры и бредовики, строгал всякий мелкий щепной товар ‒ ложки и кочедыки, бутырки и калганы. Да много чего делал Шакула, даже березовым соком торговал» [3, с. 66]. С другой стороны, выражают отношение к русским. А. В. Иванов показывает, как народы не только сталкиваются, отбирая друг у друга жизненное пространство, но и как взаимодействуют, перенимая жизненные привычки и манеры, торгуя, вступая в дружеские и прочие отношения
При безусловной разности образа жизни русских и вогулов их сближает трепетное отношение к вере. В суматошное время, когда нет единства мнений, власть, подчинение, честный труд и преступления смешались, и сложно определить, где правда, а где ложь, люди пребывают в поисках Бога и в размышлениях о душе.
Идолопоклонство – важная часть жизни старика Шакулы. Он верит, что у каждого идолка есть своё место, функция и значение. Если спутать идола, то бог будет злиться и мешать тебе, а не помогать. Одушевление природы также присутствует. Могучая река Чусовая, или Ханглавит, как называет её вогул, мыслит и чувствует. Необходимо уважать богов, реку, лес, иначе те начнут мстить. Вогулы понимают это, русские – нет: «Как вы, русские, начали тут хозяйничать, сбесился Ханглавит. Каждую весну по лугам, по лесам течет, кричит, как медведь, скалы грызет, деревья рвет. Старики такого не помнили прежде. На кого Ханглавит злится? На вас. Вы его дразните, беды не чуя» [3, с. 66-67].
Язычник-колдун, поклоняясь богам, принося им жертвы, способен использовать их силу в своих целях, поэтому «вогульские бесы» не раз встречаются в романе. Идолы часто попадаются героям в лесах. Шакула использует их для заточения человеческих душ, которыми нередко кормит своих богов. Он же помогает старцам, правящим на Чусовой.
Вогулка Бойтэ, несмотря на молодость, тоже способна погружаться в транс, ворожить, вступать в контакт с иными силами. Она молодая, сильная, яркая представительница своего народа, разбитого русскими и согнанного на ничтожную территорию, но многогранного и самодостаточного. Будучи сиротой и не имея возможности на обретение своего места, она находится в поисках себя.
В главе «Жлудовка» автор раскрывает характер героини. Бойтэ, живая и бойкая, бьется за свое существование сначала безмолвием и покорностью, накапливая в себе гнев и продумывая план мести обидчикам, а затем – бунтом. Бойтэ – вогулка, шаманка, язычница с заточенной душой, не похожая на русскую женщину, оттого еще более манящая и желанная. Она поклоняется идолам, преследует Осташу Перехода мороком и мечтает скинуть оковы: «Затем, что Шакула был раб, а я у него рабыня! А теперь я буду хозяйкой Ханглавита!» [3, с. 431].
Бойтэ – часть финно-угорского пространства Урала, воссозданного писателем. Она дополняет мир вогулов, расширяя его и показывая с новых сторон. Кроме того, Бойтэ имеет огромное влияние на героя, её образ завладевает его мыслями, привлекает его, меняя, наполняя жизнью. Осташа влюбляется в Бойтэ, мечтая жениться на ней и создать семью.
Таким образом, А. В. Иванов воссоздает в своем романе пласт финно-угорской культуры не только для придания специфического колорита, насыщенного отличными от русского обрядами, традициями, взглядами, но и для обогащения образов героев, их национальных черт и художественного мира в целом, расширяя его границы.
Список литературы Финно-угорские мотивы в романе А. В. Иванова "Золото бунта, или вниз по реке Теснин"
- Быков Д. Сплавщик душу вынул, или В лесах других возможностей // Новый мир. - 2006. - № 1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/1/by12.htm (дата обращения 14.05.2019).
- Галиев С. С. Язык мифа в пейзаже романа Алексея Иванова «Золото бунта» // Вестник Университета Российской Академии Образования. - 2011. - № 1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ivanproduction.ru/literoturovedenie/yazyik-mifa-v-pejzazhe-romana-alekseya-ivanova-zoloto-bunta.html (дата обращения 14.05.2019). EDN: NUFMUJ
- Иванов А. В. Золото бунта. - М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. - 701 с.
- Шаронова Е. А. «Мысль историческая» в романе А. В. Иванова «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» // Новая наука от идеи к результату: Междунар. научн. периодич. изд-е по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (22 сент. 2016 г., г. Сургут): в 2 ч. Ч. 2. - Стерлитамак: АМИ, 2016. - С. 147-151. EDN: UWIEEO
- Шаронова Е. А., Шаронов А. М. Жанровая специфика русского исторического романа // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2019. - № 1. - С. 195-200. EDN: YSIERF