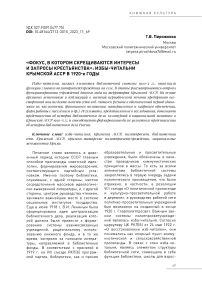«Фокус, в котором скрещиваются интересы и запросы крестьянства»: избы-читальни Крымской АССР в 1920-е гг.
Автор: Татьяна Викторовна Пирожкова
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Книжная культура
Статья в выпуске: 1 (11), 2023 года.
Бесплатный доступ
Избы-читальни, являясь элементом библиотечной системы 1920-х гг., выполняли функции главного политпросветучреждения на селе. В статье рассматриваются вопросы функционирования учреждений данного вида на территории Крымской АССР. На основе архивных источников и публикаций в местной периодической печати предпринят всесторонний анализ деятельности сети изб-читален региона в обозначенный период (динамики их численности, финансового положения, материального и кадрового обеспечения, форм работы с населением и др.). Результаты, представленные в исследовании, дополняют представления об истории библиотечного дела, культурной и национальной политике в Крымской АССР 1920-х гг. и способствуют формированию более целостного представления об истории библиотечного дела России.
Изба-читальня, Крымская АССР, политпросвет, библиотечная сеть Крымской АССР, крымско-татарские политпросветучреждения, национальные меньшинства Крыма
Короткий адрес: https://sciup.org/170198028
IDR: 170198028 | УДК: 027.9(091)(477.75) | DOI: 10.48164/2713-301X_2023_11_69
Текст научной статьи «Фокус, в котором скрещиваются интересы и запросы крестьянства»: избы-читальни Крымской АССР в 1920-е гг.
Печатное слово являлось в довоенный период истории СССР главным способом пропаганды советской идеологии, формирования мировоззрения, соответствующего партийным установкам. Именно поэтому библиотеки, служившие, с одной стороны, местом сосредоточения массивов идеологически выверенной литературы, и, с другой стороны, центром руководства чтением, занимали важнейшее место в системе социальных институтов государства. Еще в июне 1918 г. В.И. Лениным была сформулирована идея централизации библиотечного дела, реализация которой должна была привести к формированию системы взаимосвязанных учреждений, рациональному использованию книжного фонда, и в то же время, контролю за потоками литературы, направляемой в библиотечные фонды. В соответствии с принятой в 1919 г. на VIII съезде РКП(б) программой партии, библиотеки, как и прочие образовательные и просветительные учреждения, были обозначены в качестве проводников коммунистических принципов в массы. То есть за всеми элементами библиотечной системы закреплялись в первую очередь задачи политического просвещения, что было отражено, в частности, в резолюции VIII съезда «О политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне», а руководство работой сети политико-просветительных учреждений был возложено на созданный в конце 1920 г. Главполитпросвет. Важным звеном системы политпросветучрежде-ний являлась изба-читальня. Согласно циркуляру ЦК РКП(б) от 24 мая 1922 г. «О восстановлении изб-читален», они понимались как опорный пункт коммунистической и сельскохозяйственной пропаганды. В связи с этим изба-читальня, являясь элементом структуры библиотечной сети, совмещала в себе функции библиотеки, школы для взрос- лых, пункта по ликвидации неграмотности, красного уголка, клуба, то есть представляла собой единый политпро-светцентр в деревне. От других видов библиотек ее отличали несколько формальных критериев, главными из которых были размер фонда (у избы-читальни – от 200, у самостоятельной библиотеки – от 1 500 книг) и специфические обязанности работников (у избачей особо выделялась кружковая и просветительская работа) [1, с. 409]. Место избы-читальни в селе удачно описывают слова секретаря Крымского ОК ВКП(б) С.Д. Петропавловского, выступившего на Первой Всекрымской конференции избачей в 1926 г. и сравнившего роль этого учреждения с фокусом, в котором скрещиваются интересы и запросы крестьянства1.
Деятельность изб-читален в 1920-х гг. затрагивалась многими исследователями. Так, в работах Е.А. Бучкиной, В.В. Кулачкова, В.П. Николашина давалась общая характеристика деятельности изб-читален; в трудах таких авторов, как С.Ф. Бородулина, Э.Т. Головина, В.Н. Каракчиев, Д.К. Кукаева, В.В. Кулачков, Н.А. Меренкова, А.И. Мороз, В.П. Николашин, В.В. Номогаева, Л.Г. Осадчук, А.Н. Соболева, Е.В. Спешилова, И.В. Ураева, Р.Р. Хисамутдинова, характеризовалась деятельность данных учреждений в рамках отдельных регионов. Некоторые ученые (С.И. Бондаренко, Е.В. Дианова, Л.В. Табунщикова) рассматривали отдельные направления деятельности изб-читален. Они также изучались в рамках более широкой тематики, например, истории полит-просветсистемы (О.Н. Гончаренко, А.Ю. Рядных). Что касается изб-читален Крымской АССР, вопросы их истории затрагивались фрагментарно такими авторами, как, например, Б.В. Змерзлый [2], И.П. Задерейчук [3], Т.Б. Назарчук [4], В.В. Пащеня [5], Ю.Д. Устинова [6], Р.И. Ушатая [7].
день) // Красный Крым. 1926. 6 апр. (№ 78). С. 2.
Недостаточно полное освещение вопросов деятельности изб-читален Крымской АССР позволяет считать эту тему актуальной и ставит перед дан- ным исследованием цель всестороннего изучения избы-читальни как политико-просветительского центра крымского села 1920-х годов. Указанная цель предполагает решение следующих задач: определение динамики численности крымских изб-читален в целом и национальных в частности; анализ финансового положения, материального, кадрового обеспечения сети изб-читален, а также обеспеченности их литературой; изучение форм работы с населением; выявление проблем, стоявших перед избами-читальнями Крымской АССР; сопоставление тенденций развития сети крымских изб-читален с общероссийскими.
Источниками исследования служат, в первую очередь, архивные документы, хранящиеся в фондах Наркомпроса, Совнаркома и ЦИК Крымской АССР, а также информация, опубликованная в 1920-х гг. в главном печатном органе республики – газете «Красный Крым».
Согласно данным, собранным на 1 июля 1920 г. Внешкольным отделом Наркомпроса по 305 уездам 38 губерний РСФСР, из 34 225 библиотек 14 739 учреждений являлись избами-читальнями; вместе с передвижными библиотеками они составили почти 50 % от общего количества учтенных заведений [8, с. 20].
В Крыму после установления советской власти (что окончательно произошло лишь в конце 1920 г.) также начался рост числа изб-читален. Их количество, согласно официальным данным, было столь велико, что не поддавалось учету и даже на 1 января 1922 г., после сильнейшего сокращения сети, данных учреждений оказалось 120 [10, с. 435]. На сокращение числа изб-читален повлиял ряд факторов: голод 1921 – 1922 гг., нанесший колоссальный ущерб и так разоренному войной и сменами власти хозяйству Крыма,
НЭП и связанный с ней переход культурно-просветительских учреждений на местные средства. Согласно отчету Крымполитпросвета за 1922 г., изб-читален в это время осталось всего 10 % от первоначального количества [9, с. 435]. Характерно, что к концу 1921 г. в Крыму, наряду со 120 избами-читальнями, было учтено 137 библиотек [10, с. 51], то есть немногим больше, чем изб-читален. В 1923 г. началось восстановление и расширение сети политпросветучреж-дений, и в частности, организовали подготовку избачей. В 1923 г. изб-читален в Крыму было учтено 1021, при том, что стационарных библиотек в сети политпросвета числилось только 35 [11, с. 61]. Тогда, вероятно, на волне некоего оптимизма Крымполитпросвет провозгласил нереалистичную цель открытия к десятилетию Октябрьской революции в Крыму по избе-читальне в каждом населенном пункте (число которых было значительно больше тысячи). Содержание этой сети предполагалось возложить на местное население, а роль государства свести к организации сети политпросветцентров. Эта вторая сеть, которая должна была насчитывать по одному центру приблизительно на каждые 20 изб-читален, обслуживала бы избы-читальни передвижными библиотеками, волшебными фонарями, диапозитивами, агитповозками, лекторскими силами и т. д.2. Тем не менее в отчетных документах Наркомпроса КрАССР за январь – март 1924 г. упоминается, что изб-читален в Крыму всего 73, и работа в большинстве из них не налажена3, так что, даже если количество изб-читален было учтено неточно, запланированный грандиозный рост так и не начался. В 1925 г. задача развития сети изб-читален приняла более реалистичные очертания: иметь одно учреждение на каждый сельсовет. Так как в 1924–1925 г. в Крыму насчитывалось 118 изб-читален, а сельсоветов – 143, плановое увеличение сети изб-читален оказалось уже в пределах бюджетных возможностей республики [9, с. 436]. В 1925 г. их количество выросло до 120, в 1926 г. – до 1494, в 1928 г. – до 1595, в 1930 г. – до 1686. Для сравнения: стационарных библиотек в Крыму на 1 октября 1924 г. числилось 39 [11, с. 61], в 1925–1926 г. сеть районных библиотек сократилась с 31 до 27 учреждений, сеть сельских библиотек – с 14 до 57, в 1931 г. в Крыму действовало 28 городских и 50 сельских библиотек8. Таким образом, к концу 1920-х гг. наблюдался, во-первых, рост сети изб-читален. Он кажется не очень большим (по сравнению с концом 1921 – началом 1922 г. к 1930 г. сеть выросла всего в 1,4 раза), но здесь нужно учитывать факт резкого сокращения сети политпросвета на фоне неблагоприятных условий в начале 1920-х годов. Во-вторых, в сети политпросветучреж-дений именно избы-читальни занимали ведущее место в обслуживании деревни, что может служить иллюстрацией к словам Е.А. Бучкиной, определившей избу-читальню как форму существования сельской библиотеки в период культурной революции в переходных условиях [12, с. 56]. В то же время эта сеть не могла обеспечить полный охват всех сельских населенных пунктов республики. По данным 1926 г., они обслуживали до 22 населенных пунктов каждая9.
Тенденция роста сети наблюдалась также и у нацио нальных изб-читален.
Крымская АССР являлась многонациональным регионом: в 1921 г. 51,5 % населения составляли русские, 25,7 % – татары, 7 % – евреи, 5,9 % – немцы, 3,3 % – греки, 1,7 % – болгары, 1,6 % – армяне, 0,7 % – караимы; всего же были учтены представители 70 национальностей. В сельской местности преобладали татары, а из представителей национальных меньшинств – немцы (последние составляли 10 % сельского населения Крыма) [13, с. 185]. В связи с этим, на территории Крымской АССР культурное строительство сопровождалось организацией изб-читален, ориентированных, в первую очередь, на обслуживание крымско-татарского населения; в районах компактного проживания представителей иных национальностей – на обслуживание национальных меньшинств. Если сопоставить данные различных источников, динамика изменения сети крымско-татарских изб-читален выглядит следующим образом: 1923 г. – 321, в 1924–1925 г. – 48 [9, с. 426], в 1927 г. – 672, в 1928 г. – 683, в 1930 г. – 724. Количество учреждений, обслуживающих национальные меньшинства, было существенно меньшим. Так, в 1926/1927 г. насчитывалась 21 нацмен изба-читальня (не считая 13-ти смешанных)5, к 1929/1930 г. – 366. Лучше всех в этом отношении были обеспечены немцы. Так, в 1927 г. только в одном Симферопольском районе было 3 немецкие избы-читальни7.
На 1929–1930 гг. имеются сведения о 18 немецких избах-читальнях [3, с. 112]; в другом источнике указывается, что на 1930 г. в сеть входило 11 немецких изб-читален (при том, что еврейских и армянских было по 3, болгарских – 4, греческих – 5, украинская – 1)8.
Циркуляром 1922 г. предусматривалось осуществление постановления XI съезда о финансировании изб-читален из средств губисполкомов и привлечения к их субсидированию кооперативов (при непременном условии сохранения руководящей роли за партией и политпросветами) [12, с. 219]. Перевод политпросветучреждений на местные средства не способствовал их финансовому благополучию – в документах встречаются сетования по поводу отсутствия денег и беспощадного урезания смет Политпросвета Наркомфином, а также расчеты размеров необходимых дотаций. Так, в смету, утвержденную Наркомфином в 1923 г., попали только 14 изб-читален; при этом опыт показывал, что даже после утверждения сметы Наркомфин мог выделить лишь половину обещанного9. Так, например, в отчете о деятельности Наркомпроса за январь – март 1924 г. говорилось, что на содержание изб-читален и снабжение литературой по смете не отпущено ни копейки10. В 1925 г. отмечалось, что для правильной постановки политпро-светработы необходима единовременная дотация для 64 татарских и других национальных изб-читален по 100 руб. на каждую11. В результате учреждения удовлетворения потребностей немецкого населения [См.: Протоколы, анкеты, мандаты и другие материалы 2-й Всекрымской беспартийной немецкой конференции // ГА РК Р-663. Оп. 1. Д. 1027. Л. 32, 34].
-
8 Материалы национального строительства (коренизации) // ГА РК Р-663. Оп. 2. Д. 626. Л. 49.
-
9 Отчеты Крымского ЦИК'а, Совнаркома, Наркоматов и Госучреждений Крымской ССР: III-му Всекрымскому съезду Советов. С. 158.
-
10 Отчет о деятельности НКПроса КрАССР // ГА РК Р-663. Оп. 1. Д. 271. Л. 25.
порой должны были изыскивать способы поддерживать свое существование самостоятельно. Так, Корбекская изба-читальня добывала деньги на керосин и на выписку нескольких газет постановкой и показом спектаклей1. Васильевская изба-читальня в 1925 г. отчитывалась, что поставила за зиму 16 спектаклей, из которых 7 были платными. На вырученные деньги организовали выписку газет и журналов, покупку книг, закладку опытного поля2. Если очаг культуры пользовался популярностью у местных жителей, они могли поддерживать его материально. Например, крестьяне деревни Семен засеяли в 1925 г. 11 десятин и затем вырученные от продажи урожая деньги отдали на нужды своей избы-читальни3.
Население часто помогало не только материально, но и физически. Так, силами батраков и комсомольцев при содействии комитета взаимопомощи отремонтировали здание Коккозской избы-читальни4. Изба-читальня в Аутке была создана на средства, собранные с крестьян деревни. Помещение, отведенное под данное учреждение, требовало ремонта: остекления, побелки, покраски, обустройства сцены. Все это, по мере накопления средств, оставшихся от спектаклей, проделали при участии молодежи села5.
Вообще же, проблемы с помещениями были типичны для многих изб-читален. Часть из них ютилась в плохо приспособленных зданиях (например, Субашская)6. Далеко не все избы-чи- тальни отличались вместительностью, как, например, Ново-Николаевская, рассчитанная на 200 человек (Керченский район)7. Некоторые (например, Корбекская изба-читальня)8 вообще изначально не имели собственного помещения и кочевали с места на место. Часть – имела неудовлетворительную обстановку (например, Кишлавская изба-читальня)9.
Обеспеченность литературой крымских изб-читален была различной. Например, Кольчуринская в 1925 г. имела 400 книг, из них 100 – на татарском языке10; в Джермай-Кишикской насчитывалось около 300 книг на русском и татарском языках11. В целом к середине 1920-х гг. среднестатистическая библиотека крымской избы-читальни располагала фондами из 295 книг, получала 7 наименований газет [9, с. 437]. Примерно в 2 раза большую цифру по книгам называл отчет Крымнаркомпроса за 1925–1926 гг., согласно которому данный показатель составлял 600 книг12. Но были, конечно, учреждения с более значительным фондом. Изба-читальня деревни Корбек, созданная в 1923 г., летом 1925 г. имела свыше 1 000 книг. Из них беллетристики – 500, политической литературы – 450 экземпляров; русскоязычной литературы – 800, татарской – 350 названий. Также изба-читальня выписывала 17 газет13. Аутская изба-читальня предлагала читателям
1 400 книг1. В 1926 г., по утверждению газеты «Красный Крым», в учреждениях данного вида, работавших на территории Симферопольского района, было собрано до 2 тыс. экземпляров книг (при каждой), в некоторых численность книг доходила до 8 тыс. экземпляров2.
Фонд изб-читален составляли преимущественно небольшие по объему издания. «Книжки-брошюрки» – так, например, обозначила состав своей библиотеки Коккозская изба-читальня3. «Вся библиотека – из 10-40-копеечных брошюр» – вывод о состоянии изб-читален в Джанкойском районе4. При этом бедность или относительное богатство фонда не обеспечивали автоматически качество работы: Кольчуринская и Джермай-Кишикская избы-читальни с небольшими фондами относились к лучшим учреждениям. Кишлавская или Субашская книг имели больше (в 1926 г. 686 и 910 соответственно), но авторитетом не пользовались, и их работа расценивалась как недостаточ-ная5. В целом книжные фонды изб-читален были в большинстве случаев невелики и нередко могли разместиться в одном шкафу. Однако в деревне, как правило, малограмотной и лишенной возможности пользоваться полноценной библиотекой, такие фонды играли важнейшую роль.
Пополнение изб-читален осущест-влялосьпри помощи Крымполитпросвета и Райполитпросветов. Так, в апреле 1924 г. лучшие («показательные») избы-читальни получили 3 000 книг [11, с. 61]. За первое полугодие 1925 г. Крымполитпросвет направил в районы еще 5 594 названий различной литературы, среди которых имелось 100 комплектов книг на татарском языке [9, с. 437]. Совет по просвещению национальных меньшинств (Совнацмен), наряду с Главполитпросветом, входившим в Наркомпрос, должен был способствовать обеспечению литературой на национальных языках. В качестве примера можно привести один из отчетов немецкой секции Обкома партии, который упоминает о распределении между избами-читальнями и населением немецкой литературы, полученной с 1 октября 1922 по 28 февраля 1923 г. из Москвы6. По 100-150 экземпляров каждого названия7 было явно мало для удовлетворения потребностей Крыма. В целом недостаточное поступление национальной литературы стало одной из серьезнейших проблем изб-читален (а также школ, клубов, библиотек) Крымской АССР: о ней упоминается во множестве источников. Так, в отчете о работе крымского Совнацмена за период с 1 октября 1923 г. по 1 октября 1924 г. указывалось, что избы-читальни в некоторых крупных немецких, армянских, болгарских селах имелись, но в них совершенно отсутствовала литература и периодические издания на соответствующих языках. Только в конце отчетного периода удалось снабдить немецкие избы-читальни политической литературой на немецком языке, полученной из совпартшколы8. В июне 1925 г. Коллегия Наркомпроса отмечала абсолютное отсутствие учебников, учебных пособий, руководств и литературы на родном языке в чешских школах и культучреждениях Крыма, указывая на необходимость отпустить на решение проблемы не менее 300 руб., из которых 100 – на политическую и сельскохозяйственную литературу для изб-читален и клубов1. О нехватке или отсутствии книг в нацмен избах-читальнях и о необходимости организовать систематическое снабжение таковой литературой говорится в документах и периодике 19262, 19273, 1928 гг.4. Задача обеспечения учреждений Крыма национальной литературой не была решена ни поступлениями извне, ни силами собственного издательства. Отсутствие литературы на национальных языках (а также нехватка работников) позволили Наркомпросу сделать в 1926 г. вывод: национальные избы-читальни часто являются таковыми лишь номинально, фактически они русские5. Недостаточно снабжались литературой и крымско-татарские избы-читальни. Так, в Корбекской избе-читальне большинство татарских книг было на казанском диалекте, и они не были понятны крымско-татарскому населению. Не хватало избе-читальне и новинок, политических и сельскохозяйственных, главным образом, опять же на татарском языке6. Васильевская изба-читальня жаловалась на отсутствие пользовавшейся спросом детской и татарской литературы7. В Аутской избе-читальне из имевшихся 1 400 книг на татарском языке было только 158. Отмечали нехватку или даже отсутствие литературы на крымско-татарском языке и официальные документы. Так, в 1924 г., в отчете о деятельности Наркомпроса КрАССР сказано: «О работе в татар- ских избах-читальнях говорить пока не приходится, так как работники и литература на татарском языке совершенно отсутствуют, за исключением татарских газет “Новый мир” и “Яшкувет”»9. В то же время, как считает Б.В. Змерзлый, в 1925–1926 гг. в снабжении изб-читален, а также пунктов по ликвидации неграмотности татарской литературой стали заметны некоторые положительные сдвиги. В 1927–1928 гг. положение в деле снабжения татарской литературой более или менее наладилось, но переход на ново-тюркский алфавит (с арабского алфавита на латинский) перечеркнул все достижения в этой области [2]. Следует подчеркнуть, что снабжение крымско-татарских изб-читален литературой было в более выгодном положении по сравнению со снабжением читален национальных меньшинств за счет развития местного издания книг и периодики на татарском языке. Однако даже в этом случае, как видно из документов, полностью вопрос обеспеченности крымско-татарских политпросветучреж-дений литературой решен не был. Таким образом, в крымских избах-читальнях на протяжении 1920-х гг. существовали проблемы со снабжением татарской литературой, литературой на языках национальных меньшинств, поставками новинок и отдельных видов литературы.
Какую работу вели крымские избы-читальни? Циркуляр 1922 г. выделял в деятельности избы-читальни простейшие задачи: чтение вслух «Бедноты», популярной сельскохозяйственной книжки, чтение и разбор декретов и т. п.10. Положение о волостной избе-читальне 1924 г. перечисляло множество задач, которые входили в повседневные обязанности данного учреждения. Предусматривалась работа по ликвидации неграмотности и самообразованию, агитации и пропаганде, борьбе за новый быт (санитарное просвещение и борьба с суевериями), кружковая работа и т. д. Расшифровывая задачи библиотечной работы, положение указывало, что в плане должно быть намечено: какие устраивать книжные выставки, на какие книги обратить внимание читающих, сколько громких читок организовать, какие передвижки из города взять и куда их дать)1. Таким образом, деятельность избы-читальни предполагалась весьма разноплановой, и на примере крымских учреждений это неплохо прослеживается. Так, в середине 1920-х гг. в лучших крымских избах-читальнях регулярно организовывались лекции, доклады, для бесед с населением приглашали врачей, агрономов. Например, Ново-Николаевская изба-читальня с момента открытия в апреле 1924 г. и по июнь 1925 г. провела 43 лекции2; в деревне Корбек врач читал лекции на регулярной основе (4 раза в месяц), 2 раза в месяц проводились лекции участкового агронома3. В Васильевской избе-читальне раз в неделю проводились антирелигиозные читки и читки по гигиене4. В избе-читальне деревни Нейзац в программе были лекции по общедоступной астро-номии5. Велась работа по ликвидации неграмотности6 и организация кружков. Например, в Васильевской избе-читальне функционировали кружки хоровой, драматический, политграмоты, самообразования, сельскохозяйственный, спортивный7. При Аутской избе-читальне была создана футбольная команда из 24 человек8. В деревне Садыр работало 6 кружков, которые посещало 119 человек9. Формировались ячейки различных организаций (Международной организации помощи борцам революции, Российского общества Красного Креста и т. д.)10. Значительное внимание уделялось обслуживанию женщин. Так, в деревне Корбек при избе-читальне велась работа с 25 женщинами-делегатками, был открыт женский клуб11; в Васильевке еженедельно с женщинами проводили занятия по программе Райженотдела12; при Коккозской избе появился делегатский женский пункт всей Коккозской долины13; в Карасанской избе-читальне как показатель результативности работы с женщиной-татаркой приводился пример проведения 2 октябрин в деревне Джага шейх-Эли14. Велась культмассовая работа – ставились спектакли, проводились вечера самодеятельности, действовали драматические и музыкальные кружки. Так, драматический кружок Васильевской избы-читальни за одну зиму поставил 16 спектаклей15. В драматическом кружке при избе-читальне в Коккозах, в котором участвовало 30 человек из двух секций (русской и татарской), провели 7 кампаний с постановкой спектаклей16.
Избы-читальни нередко выпускали стенгазеты1, стараясь привлечь к этому делу широкий крестьянский актив. Так, в 3 номерах Кокейской газеты приняли участие 26 крестьян [9, с. 436]. Некоторые избы выпускали даже жур-налы2. Подхватывались новые формы работы, такие как живые и устные газеты. В 1925 г. они пользовались популярностью в Ялтинском районе [9, с. 436]. При некоторых избах-читальнях были организованы опытные участки для сельскохозяйственных культур. Так, Карасанская изба-читальня (Симферопольский район) имела 1 десятину посевов кукурузы и для красного уголка деревни Салгир-Кият 2 десятины ржи3. При Камбарской избе-читальне сельскохозяйственный кружок производил опыты по посеву новых для Крыма культур – хлопка и клещевины4. В избах-читальнях активно велась справочная работа: в основном выдавались справки по различным правовым вопросам (в среднем – 20-25 справок от 1 учреждения). В 15 избах-читальнях Симферопольского, отчасти Керченского и Феодосийского районов, были сформированы справочные бюро [4, с. 120]. При организации работы с литературой очень распространенной формой были громкие читки газет и брошюр. Например, в Ново-Николаевской избе-читальне с апреля 1924 г. по июнь 1925 г. было проведено 28 таких мероприятий5, в Карасанской избе-читальне Симферопольского района (с ноября 1924 г. по июль 1925 г.) – 766. К 1925 г. постоянную работу с газетой путем громких читок и бесед вели 80 % изб-читален [9, с. 436]. Летом во время полевых работ в деятельности изб-читален приобретали актуальность иные, нестационарные формы работы. Например, в 1926 г. в связи с проведением Всекрымского совещания по агитработе в прессе появился ряд рекомендаций по работе избача летом, в которых особо подчеркивалась роль справок. Рекомендовалось использовать минимум форм: беседу, читку газет и книг, наведение справок и проведение праздников, в которые требовалось вложить современное содержание. Для проведения справочной работы предлагалось организовать доски «Знаешь ли ты?» (информация о международном положении, декретах и прочем), устные краткие информации, рекомендации книжек и газет7. Другой автор отмечал, что все виды массовой работы, как то: беседы, громкие чтения, рассказывания, вечера вопросов и ответов, живые газеты, стенная газета, световой фонарь, должны отражать в себе моменты справочной работы8. В целом перечень направлений работы избы-читальни был очень велик. Неслучайно в одной из статей этого периода прозвучал призыв: «Всякий свободный день и час крестьянина пусть будет заполнен работой избача»9.
Обширность направлений деятельности избы-читальни предъявляла особые требования к личности избача. Можно предположить, что успеха на этом поприще мог достичь только такой претендент, который был образован, идеологически устойчив, активен, имел творческие наклонности и организаторские способности, мог привлечь к работе избы-читальни интеллигенцию села и заинтересовать население. При этом работа избача оплачивалась плохо. Так, 21 января 1925 г. Агитпроп ЦК отметил, перечисляя проблемы изб-читален, крайне низкие ставки политпросветработников (избачи, как правило, получали зарплату меньшую, чем учителя и не так аккуратно, как последние), совместительство в работе (совместительствовало до 50 % работников), «переброска» кадров (свыше 80 % избачей работали менее года)1. Постановление ЦК ВКП(б) «Об избах-читальнях» от 11 ноября 1929 г. акцентировало внимание на следующих кадровых проблемах, характерных для страны в целом: совмещение работы избача с основной работой, слабая квалификация избачей, их частая сменяемость и недостаточное материальное финанси-рование2. Общероссийские проблемы кадров нашли отражение и в условиях Крыма, где, например, в 1926 г. отмечалось, что избачи имеют слабую подготовку и, как правило, для этой должности характерна большая текучесть; что они увлекаются спектаклями в ущерб прочим обязанностям3. Что касается оплаты труда избачей, известно, что в 1924 г. Крымполитпросвет выделил ежемесячную дотацию в размере 15 руб. заведующим показательными избами-читальнями [11, с. 61]. Сумма равнялась ставке первого разряда по промышленной группе и была выше соответствующих ставок по сельскому хозяйству, торговле и аппарату госучреждений (там ставка составляла 12 руб.) [11, с. 73]. Тем не менее упоминание о текучести кадров, жалобы в периодике на недостаточное финансирование избачей4 являются указанием на то, что обеспечить их адекватное содержание так и не получилось. Серьезной проблемой была нехватка кадров, владевших языками национальных меньшинств Крыма. Так, в 1925 г. в отчетных све- дениях о работе среди нацменьшинств содержатся сведения о том, что в национальных избах-читальнях работа, за редким исключением, ведется на русском языке5. На фоне этих данных замечательным фактом представляется заметка об избаче Кольчуринской избы Феодосийского района, свободно владевшим русским, татарским, армянским языками6, но такой пример уникален.
Говоря о проблемах изб-читален национальных меньшинств, нужно отметить, что Крымская АССР испытывала те же трудности, что и другие многонациональные регионы. Так, например, аналогичные крымским проблемы в организации работы изб-читален для национальных меньшинств существовали на Ставрополье [14, с. 33].
Проблема подготовки избачей-представителей национальных меньшинств, как и избачей вообще, по возможности, решалась с помощью курсов. Так, во время Второй Всекрымской беспартийной немецкой конференции говорилось о наличии избачей-немцев, прошедших курсы7. В 1926 г. при планировании данной формы образования было решено организовать три группы – русскую, татарскую и национальных меньшинств (до этого были только русская и татар-ская)8. Подготовке политпросветработников органы власти старались уделять большое внимание. Отчитываясь за 1923–1924 гг., крымский Наркомпрос указывал, что такие курсы были проведены в Севастополе, Ялте, Феодосии. В этот же период организовали Центральную методическую комиссию по работе в избах-читальнях [11, с. 61]. Летом 1925 г. курсы избачей в Крыму прошло 103 человека, из них 43 татарина, 38 – русских и 22 – прочих национальностей [9, с. 435]. Однако они не всегда давали ожидаемый эффект. Так, в 1926 г. отмечалось, что из 103 человек, прошедших в 1925 г. курсы избачей, на работе осталось только 40, остальные были переброшены в другие места1.
В целом именно от избача, от того, насколько успешно ему удалось организовать работу и найти подход к населению, зависело отношение населения к избам-читальням. Примеры их успешной работы уже приводились, но были и противоположные факты. Нередко избачи вели свою работу плохо, избы-читальни могли стоять закрытыми, не пользуясь авторитетом среди местных жителей. В прессе периодически появлялись жалобы на такие учреждения. Например, в 1926 г. в «Красном Крыму» жаловались на избы-читальни в деревнях Ак-Шейх (крестьяне хотят учиться метрической системе, чтобы их не обвешивали на базаре, а такой кружок организовать избач не смог), Тотанай (избач не знает, есть ли в его районе красные уголки, сколько у него книг и есть ли у его избы-читальни совет), Кадыш (при избе-читальне нет ни одного кружка)2.
Успешная работа избача приводила к росту популярности избы-читальни, вывод о которой отчасти можно сделать по посещаемости. В июле 1925 г. отмечалось, например, что в Коккозской избе-читальне она составляла 40-50 человек в день3, в Корбекской – 1 658 за месяц4 (то есть примерно 55 человек в день). Васильевская изба-читальня указала среднюю посещаемость зимой – 86 человек5. В Аутской избе-читальне ежедневно, по данным мая, приходило 60 человек. И это не считая дней, когда устраива- лись спектакли6. В последнем случае крестьяне настолько привыкли проводить досуг в избе-читальне, что даже попросили открыть ее в понедельник, в выходной день7. Об отношении к учреждению данного вида можно отчасти судить и по составу посетителей. Например, в деревне Корбек избу-читальню изначально посещала в основном молодежь, но постепенно доля взрослых посетителей выросла, в том числе за счет женщин8.
Таким образом, в 1920-х гг. избы-читальни были в Крыму важнейшим элементом библиотечной системы, являясь главным политико-просветительским центром села. На протяжении рассматриваемого периода динамика изменения их численности была неравномерной: кратковременный рост после установления советской власти, затем резкое сокращение на фоне голода, разрухи и снижение финансирования, затем, с 1923–1924 гг. постепенное восстановление и количественный рост (в том числе за счет национального компонента).
В целом можно сделать вывод, что в Крымской АССР 1920-х гг. изба-читальня, демонстрируя готовность оказывать практическую помощь, предлагая знания и культурный досуг, смогла развернуть часть крестьянства лицом к себе. Этот процесс не был повсеместным, так как работа отдельных учреждений вызывала нарекания или вовсе не интересовала население, но он был запущен, послужив для деревни проводником новой, советской системы ценностей.
Список литературы «Фокус, в котором скрещиваются интересы и запросы крестьянства»: избы-читальни Крымской АССР в 1920-е гг.
- Бучкина Е.А. Деятельность специалистов сферы культуры в период культурной революции в России // Современное образование: векторы развития. Роль социально-гуманитарного знания в подготовке педагога: Материалы V Междунар. конф., Москва, 27 апр. – 25 мая 2020 г. / под общ. ред. М.М. Мусарского, Е.А. Омельченко, А.А. Шевцовой; МПГУ. Москва, 2020. С. 407-414.
- Змерзлый Б. В. Некоторые аспекты работы государственных и партийных органов Крымской АССР в 1920–1930-х годах по ликвидации неграмотности среди крымских татар // Культура народов Причерноморья. 2004. № 50. С. 74-77. [Электронный ресурс] URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/74387/18-Zmerzly.pdf?sequence=1 (дата обращения: 07.02.2022).
- Задерейчук І.П. Розвиток бібліотечної справи у німців Криму в ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст. // Культура народов Причерноморья. 2009. № 155. С. 110-114.
- Назарчук Т.Б. Справочная работа библиотек Крыма в 20-30-е годы ХХ века // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: История. 2008. Т. 21 (60), № 1. С. 113-123.
- Пащеня В.Н. Социально-экономическое и культурное развитие крымских этносов в первой половине ХХ века (1905–1945 гг.) // Культура народов Причерноморья. 2006. № 90. С. 180-239.
- Устинова Ю.Д. Становление и развитие образования взрослых в Крыму (20-30-е годы 20 столетия) // Педагогический журнал. 2017. Т. 7, № 5A. С. 20-29.
- Ушатая Р.И. Национальные библиотеки Симферополя первой половины ХХ века // Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века. Симферополь: Межвуз. центр «Крым», 2007. С. 54-59. (Культура народов Причерноморья; № 98. Т. 2).
- Абрамов К.И. История библиотечного дела в России: в 2 ч. Ч. 2: учеб.-метод. пособие для студентов, преп. и библиотекарей-практиков. Москва: Либерея, 2001. 160 с.
- Зорин И.И., Волгин Ф.М. Культурная и общественная жизнь в Крыму // Весь Крым, 1920-1925: [V-му Всекрымскому съезду Советов]: юбил. сб. / Изд. КрымЦИКа. Симферополь, 1926. С. 421-448.
- Ушатая Р.И. Библиотечное дело в Крыму в 20-30-е годы ХХ века // Ушатая Р.И. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века. Симферополь: Межвуз. центр «Крым», 2007. С. 49-54. (Культура народов Причерноморья; № 98. Т. 2).
- Четыре года соввласти в Крыму. 1920–1924. Симферополь: КрымЦИК: Совнарком, 1924. 408 с.
- Бучкина Е.А. Изба-читальня как инструмент культурной политики в период культурной революции в России // Образование и культурное пространство. 2020. № 2. С. 55-61.
- Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики 1917–1924 гг. Москва: Обществ. акад. наук рос. немцев, 2003. 851 с.
- Головина Э.Т. Особенности функционирования изб-читален на Ставрополье в 1920–1930-е гг. // Гуманитарные и юридические исследования. 2015. № 4. С. 31-36.