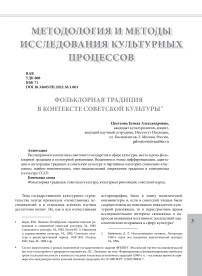Фольклорная традиция в контексте советской культуры
Автор: Цветкова Галина Александровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается политика советского государства в сфере культуры, место и роль фольклорной традиции в культурной революции. Выделяются этапы дифференциации, адаптации и интеграции традиции в советскую культуру и партийные категории социально-классового, идейно-политического, этно-национальный сопряжения традиции и коммунизма в культуре СССР.
Фольклорная традиция, советская культура, культурная революция, советский народ
Короткий адрес: https://sciup.org/170194522
IDR: 170194522 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2022.36.1.001
Текст научной статьи Фольклорная традиция в контексте советской культуры
Тема государственного культурного строительства всегда привлекала отечественных исследователей и в отдельных аспектах изучена достаточно полно1. Но, как и вся отечественная историография, была в плену политической конъюнктуры и, если в советской ученые были сосредоточены на позитивных показателях культурной революции, то в перестроечное время исследовательские интересы склонялись к вопросам выявления негативных последствий идеологического вторжения в сферу культуры2.
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева» по теме «Формирование и функционирование певческих групп в сельской местности в контексте угасания локальных аутентичных традиций (1990-е гг. – настоящее время) на примере юго-западной русской и казачьей песенных традиций» Рег. № НИОКТР: 121021700010-7.
Осмысление судьбы фольклорной традиции как элемента культурной политики стало частным предметом в русле переоценки всего советского прошлого в постсоветской исследовательской практики3 и актуализировалась с введением в научный оборот ранее недоступных источников4. Но независимо от субъективных интерпретаций и, исходя из логики нацеленности советского государства на коммунистическое устройство общества, безусловным является тезис о подчинении всей фольклорной традиции целенаправленной активности власти в сфере культуры — культурной революции, что можно принять исходным методологическим постулатом исследования судьбы фольклорной традиции в контексте советской культуры.
С начала установления Советской власти деятельность её определяла стратегия новизны, отказ от старого, создание принципиально нового социально-экономического строя, новой культуры, нового человека. Эта стратегия изначально ставила традицию в оппозицию к Советской власти, как пережиток, тормозивший движение к новому. Проблема состояла в доминировании традиционного мышления в среде населения, что было неприемлемым, принципиально несовместимым с планами новой власти, поскольку вопрос стоял о сторонниках революции, опоры новой власти, её жизни и смерти.
Акторы пролетарской революции — большевики — не имели иллюзий по поводу культурного уровня населения России. Они знали, что этот уровень недостаточен для её осуществления и строительства социализма в России, а между тем, культура рассматривалась как один из главных факторов успеха установления власти большевиков. Но лидеры партии выдвинули теоретическое положение об инверсии факторов готовности: после взятия власти и при поддержке мировой революции, культурные преобразования должны были опереться на созданные социально-экономические, политические и идеологические предпосылки. Но реальные условия становления нового государства заставили осу- ществление замысла подчинить задачам сохранения и выживания советской власти.
Потребовалось форсированное развитие страны, что обусловило усиление прикладного характера культурных преобразований, всего культурного строительства и сильное партийно-государственное внимание к этой сфере. Разрабатывались идеология социалистической культуры и программные установки культурного строительства, что получило в советской историографии общее название «культурная революция»5.
С установлением единовластия ВКП(б) стала основной направляющей силой культурного строительства. В довоенный период её незыблемыми принципами были партийность, классовая оценка явлений культуры, обязательность «четкой классовой линии в работе коммунистов на культурном фронте»6.
В 1920-х гг. тактика в отношении традиции в комплексе культуры определялась стратагемами, источником которых был марксизм — специфически адаптированная общественно-экономическая теория Маркса. Этот, приспособленный Лениным к обстоятельствам России теоретический комплекс был «по-гегелевски систематичен, исполнен высокого интеллектуализма, апелляции к исторической необходимости и техническому развитию промышленности»7. Но для понимания судьбы традиции важно, что в этой теории «человеческое существо» рассматривалось скорее, как «марионетка, подвластная все- могущим материальным силам», а власть, увлеченная этой «нетерпеливой философией», полна «стремления создать новый мир без достаточной подготовки его во взглядах и чувствах простых людей»8.
В сфере культуры налицо была парадоксальная ситуация. Установилась власть приверженцев, носителей традиции — рабочих и крестьян, но главной целью этой власти было разрушение традиционной жизни, фундаментальной основы их жизни. Инверсия задач (захватим власть и будем изменять мировоззрение людей) означала перепахивание поля форсированными темпами и беспощадными средствами. Уже в 1920 г. Бертран Рассел, расположенный к большевикам и революции, с предчувствием обнаружил: «Российская революция сильнее изменяет повседневную жизнь и структуру обществ: она вносит также большие перемены в представления и убеждения людей».
В процессе формирования советской куль-туры9 на уровне технологии произошло раздвоение традиции: как образ жизни и как сфера художественной деятельности.
Всё, что относилось к образу жизни — от духовно-нравственных её оснований до бытовых санитарно-гигиенических привычек — подвергалось переделке, а отделённый от него комплекс фольклора перемещался исключительно в сферу художественно-творческой деятельности, которая могла послужить новой власти как средство воспитания. Последнюю функцию предопределил Ленин, понимая, что теперь судьба советской власти зависела от «состояния ума» и, прочитав «Смоленский этнографический сборник» В.Н. Добровольского и «Северные сказки» Н.Е Ончукова, он рекомендовал: «Какой интересный материал… Я бегло просмотрел эти книжки и вижу, что не хватает, очевидно, рук и желания все это обобщить, всё это просмотреть под социально-политическим углом зрения. Ведь на этом материале можно было бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных… Это подлинно народное творчество, такое нуж- ное и важное для изучения народной психологии в наши дни»10.
Советской власти нужно было говорить с народом на одном языке, неотложно понадобились адекватные средства, которые, воздействуя на чувства и эмоции силой внятных символов и художественных образов, внедряли бы в народное сознание коммунистические идеи и идеалы, постепенно формируя стереотипы и нормы мировосприятия.
Фольклор, наравне с научным и политическим, стал источником идеологических дискурсивных практик11. Опыт народнической интеллигенции свидетельствовал, что прямое насаждение социалистических идей в массовое сознание не увенчалось значительным успехом — абстрактные категории: «революция», «эксплуатация», «атеизм» не находили отклика у народа, т.к. они были чужими, «барскими»»12. Все абстракции следовало перевести в эмоциональный план. Способом преодоления отторжения массами трудящихся социалистических идей стала «лингвистическая процедура соединения абстрактных социалистических категорий с фольклорными лексемами. Была осознана необходимость перевода их на язык народных представлений. Переведенные идеи обретали образно-эмоциональное, фольклорное толкование, тем более, что идеи большевистской доктрины органичны народной языковой почвы в силу «определенной генетической связи большевизма с архаикой»13. Слова «социализм», «капитализм», «пролетариат», «буржуазия» интерпретировались не как социальные категории, а как имена традиционалистских архетипов зла и добра, своих и чужих14. В свою очередь большевистская лексика наполнялась архаическими лексемами. Появились смешанные фразеологизмы: «единая семья братских народов», «вождь мирового пролетариата», «социалистическая Русь».
Распространенным средством стало наложение социалистических идеалов на традиционные родоплеменные архетипы. Так, например, использование архетипа власти в пропаганде новых взглядов на власть (имелась в виду, конечно, советская власть) являла поэзия казахских и киргизских народных сказителей. В традиционном акынском панегирическом жанре «мак-тоо» (восхваление старейшины, вождя) написана песня Токтогула «Что за мать родила такого сына, как Ленин!»15.
Использование фольклорных культурноязыковых норм, древних родоплеменных, общинных представлений усиливало эффективность воздействия на умы. В среде борцов за классово выверенную культуру возникло понимание необходимости песни и сказки как первоочередной народной потребности16.
В 1920-х гг. был создан огромный песенный массив на основе песенной традиции. В советской поэзии шла «напряженная работа по созданию массовой лирической песни, которая бы, с одной стороны, опиралась на социокультурные традиции бытования лирической песни в народной жизни; с другой, пыталась ввести современную жизнь всего народа в идеальное лирическое пространство»17. Понимание функциональной значимости песни в деле формирования «умов» сказалось в открытии в Госиздате «Новой серии лубочной литературы», выходе в 1920-е серии «Библиотека для рабочих и крестьян» («Изба- читальня»)18. Так продвигался классово ориентированный подход к массовой литературе, прежде всего для деревни, как наиболее связанной с традицией: «нужна своя советская лубочная литература — песенник, сказка… на что чувствуется большой спрос на книжном рынке, особенно в глубокой провинции». В этом направлении просчитывалась осторожность в комплексе прямого и опосредованного действия на эмоциональную сферу и нравы традиционной жизни. Так, «песенник с одними революционными песнями не удовлетворяет: нужен общий песенник, как и в старину, с бросающейся в глаза лубочной картинкой, простонародной песней… Такие песенники можно было бы наполовину или на треть заполнить революционными песнями и, благодаря этому, они привились бы лучше, даже в самой глуши»19 и замещали бы привычки грубых традиций деревенской жизни: «Где до одури льют самогонку, хлещутся кольями, сходятся на кулачные бои целыми деревнями и поют отвратительные бесстыдные самодельные частушки». Но пока связь с традицией была крепка и чрезмерность вторжения в традиционный быт была опасна сопротивлением: «из старого наследия может быть принято все, пусть не революционное, но такое, что не противоречит новому быту и нейдет ему вразрез, т.е. стоит исключить царя, веру, и отечество, — остальное не принесет вреда, а только пользу»20.
Стремление власти понятно излагать новую идеологию находило воплощение в наиболее удобных и доступных жанрах фольклорной традиции. Так, поговорки и пословицы были включены в идеологическую функциональную систему, распознанные современными исследователями «как важные составляющие общей семиотической организации эпохи»21. Идеологическая инструментальность этого жанра связана с эффектом «эпических ассоциаций»22, вызываемых самыми краткими литературными жанрами. Созданные советские поговорки и пословицы имели структурное единство с традиционным фольклором и смысл их был понятен в контексте дискурсивной политики23. Были выпущены многочисленные сборники24 с идейно выверенными пословицами и поговорками, типа: «Не боимся мы напасти, быть всегда Советской власти», «Раньше церковь да вино, теперь клуб да кино», «Что завоевано революцией, то подтверждается Конституцией», «Политически отстанешь — обывателем станешь», «Кликали жен бабами, а теперь зовем прорабами» и т.д.25
Советские пословицы и поговорки: «Хозрасчетная бригада — потерям преграда», «Машину поймешь — далеко пойдешь», «Закон рабочей чести — не стоять на месте, а постоянно двигаться вперед и помогать тому, кто отстает», «Губит лень, а спасает трудодень», «У кого много трудодней, тому и жить веселей», «Вывод простой: где прогул, там и простой», «В поле огрехи — в колхозном амбаре прорехи», «Где растяпа да тетеря — там не прибыль, а потеря», «Кто с агротехникой дружит — об урожае не тужит». «Выдавай плавку скоростную — прославляй страну родную», «Береги колхоз — получишь хлеба воз», «Были у нас бары — пустели амбары, сгинули бары — полны амбары», «Путь к победе ближе и короче, если дружат крестьянин и рабочий», «Были времена — не знали полотна; а теперь годы стали — шелка носить стали», «Не будь тетерей — борись с потерей», «Колхозная
Новую фазу, по существу поворот, в культурном строительстве открыл ХУШ съезд партии (1939)26, на котором был сделан очень важный вывод о новой политической ситуации в стране, а именно, о том, что социализм советском государстве в основном был построен, и страна вступила в новую полосу развития — завершение строительства социалистического общества. Этот вывод о победе социализма был гибельным знамением для фольклорной традиции.
Фольклорные традиции, взятые как аспект быта (досуговое времяпрепровождение, ритуальное оснащение жизненных коллизий), с принятием новой стратегической линии окончательно перемещалась на периферию быта и обрекалась к забвению. Эта неизбежность продуцировалась новой расстановкой сил: завершение внутренней классовой борьбы, успехами коллективизации и индустриализации, успехами в достижении всеобщей грамотности, создании новой социально-классовой структуры, собственной интеллигенции и интернационального союза многонационального государства СССР. Поэтому на смену поиску взаимопонимания, разговора с народом на языке народа для власти наступило время понуждения к культуре в её советском формате. С ознаменованием победы социализма в его основе борьба за умы интенсифицировалась.
На партийном съезде и было выдвинуто теоретическое положение о расширении культурно-воспитательной функции советского государства, которая с победой социализма становилась одной из главных функций сила — кулакам могила», «Один — за всех, а за тебя — весь цех», «Машина любит смазку, передовой опыт — огласку», «Кип скоро пришел — сварил плавку хорошо»; «Веди завалку скоро, но толково»; «Вот и построй тут завод, когда бетон совсем не идет»; «Бра-ковые валы не потянут и волы», «Каков запуск, таков и выпуск», «На месте застрял — от жизни отстал»; «Кулаку от колхозных ворот — крутой поворот», «Плуг не кидай кое-как — подберет кулак!», «Велик день для лодыря, а для ударника мал», «Лодырь хочет прожить не трудом, а языком», «Кто не любит критики, тот не хочет исправиться», «Партийный — человек активный» / Цит. по Скрадоль Наталья. Указ. соч.
26 XVIII съезд 1939 г. был последним съездом ВКП(б) перед войной. Следующий - XIX – произойдет через 13 лет – в 1952 г., на котором партия будет переименована в КПСС.
государства27. Практическим следствием этого положения должно было быть усиление государственного руководства культурным процессом в стране. Но по существу реализация этого программного положения началась во второй половине 1940-х гг. Вторая мировая и Великая Отечественная войны скорректировали партийные планы.
После войны внутренняя и международная политическая ситуация, интенсифицируемое «холодной войной» противостояние экономических систем и идеологических врагов определяли приоритет укрепления военно-экономической мощи, реконструкции тяжелой промышленности, демонстрации преимуществ социализма как социально-экономической системы и теоретическому обоснованию правильности советского идеологического курса и правомерности государственно-партийного руководства в сфере культуры. Было выдвинуто теоретическое положение о направляющей роли партии в духовной жизни как закономерности социализма, что на практике обеспечивало советское содержание культурной политики и «необходимый размах в культурной работе». Направляя процесс культурной революции на достижение поставленных целей и задач, ВКП(б)28 первостепенное значение придавала методу идейного воздействия на развитие советской культуры.
Особенность нового идеологического дискурса в сфере культуры заключалась в смене нормативной диспозиции, что существенно обесценивало фольклорную традицию как характерную черту народной культуры. Теперь народ выступал не объектом окультуривания, а её субъектом — борцом за новую культуру, творцом советской культуры. Эта диспозиция зиждилась на тезисе о состоявшемся новом качестве народа, новом свойстве его сознания.
Утверждалось, что народ своим добровольным жертвенным подвигом поддержав государство и власть, в ходе войны окончательно сформировался как единый советский, в его «патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза»29. Этот новый народ в своей структуре ещё имел два пласта, разделялся по степени идейности на «авангард» (сознательная часть) и «тылы» (часть, ещё требующая «подтягивания»). Но советская причастность сама по себе санкционировала первым право считать себя носителями истинных духовно-нравственных и социальных ценностей, а вторым — право реализовать свою потребность приобщения к более высокому социальному статусу авангарда. А обязанность обслуживать и удовлетворять народные интересы и требования возлагалась на сферу культуры. Партия (как лидер авангарда) и государство (как орган власти) теперь оценивали деятельность сферы культуры по критерию соответствия «высоким запросам и художественному вкусу советского народа», не оставляя места для рассуждений, что «народ якобы «не дорос»30. Претензии от имени народа предъявлялись деятелям культуры в императивных категориях: «перестроиться и повернуться лицом к своему народу», «доказать, что вы способны лучше служить своему народу», «связь с народом должна быть как никогда тесной»31.
В своих инвективах от лица народа партия требовала изъятия из обихода, как «недостойные и несвойственные советским людям», «развлекательность без идейной нагрузки», трофейные «дрянные изделия заграничной эстрадной порнографии», «песенки и танцы» в ритме импортных «блюзов, фоксов, бостонов», «кабацкая меланхолия»32 песенной лирики отечественных авторов33. В этом полемическом дискурсе в защиту народного художественного вкуса произошло невольное возрождение ценности традиционной культуры: «Мы, большевики, не отказываемся от культурного наследства… всех народов, всех эпох, всего богатства народных мелодий, песен, напевов, танцевальных и плясовых напевов, которыми так богато творчество народов СССР»34. Но возрождение было не целью, а носило тот же инструментальный характер: «Воспользоваться богатством… для того, чтобы отобрать из него всё то, что может вдохновлять трудящихся советского общества на великие дела в труде, науке и культуре»35.
Под знаменем воли народа и с опорой якобы на его традиции начал разворачиваться марш за культурный подъем, беспрецедентный по масштабам и охвату населения, особенно в деревне36. Фольклорные жанры были вовлечены в процесс придания народности художественной культуре, что порождало ква-зифольклорное творчество с яркой идейновоспитательной подоплёкой37. Используя жан- ровые возможности фольклора «быть ближе к народу», ангажированные советские авторские произведения редуцировали потенциал формы глубинный народной мудрости до плоской идеологической схемы38.
Начиная со второй половины 1940-х, партия и государство уделяли воспитательной работе первостепенное место во внутренней политике, в процессе чего, фольклорная традиции угасала как аутентичная и трансформировалась в организованное художественное творчество.
В очень тяжелых послевоенных условиях восстановления народного хозяйства, в условиях дефицита сил и средств по решению партии были выделены огромные по тем временам средства для создания условий творческого развития масс.
В февраль 1947 года созданы Дома крестьянина, которые «являются культурно-просветительным учреждениями и имеют своим назначением повышение культурного уровня и политической сознательности колхозников, рабочих и служащих МТС и совхозов, сельской интеллигенции, крестьян-единоличников»39. С конца 1950-х гг. усиливается «культурное обслуживание» сельского населения путём повышения роли клубов и библиотек, непосредственно нацеленных на «массово-политическую работу в деревне» и «улучшения» состава культпросветработников.
Нетривиальным способом материальной поддержки развития творчества на селе стало назначение Домов крестьянина как бытового учреждения для приезжающих в города и районные даным», «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Кубанские казаки» и др.
центры40, а в конце 1950-х с этой целью укреплялась материальная база клубов, обязывая «федеральные и местные власти разного уровня при распределении капиталовложений предусматривать ассигнования на строительство» учреждений культуры41 и обеспечивать деятельность по развитию народных художественных промыслов, организации производства изделий в новых районах»42.
Государство поставило целью, чтобы «каждый сельский Совет имел, как правило, государственный клуб и библиотеку», предписывало принять меры к развертыванию сети передвижных культурно-просветительных учреждений: избы-читальни, красные чумы, яранги, куль-тбазы, клубы-автомобили, плавучие культбазы, культпалатки и т.п. и активизации Общества по распространению политических и научных знаний, «значительно расширить чтение бесплатных массовых лекций для городского и сельского населения. … Организовать чтение лекций в клубах, колхозах, совхозах и МТС»43. С этой целью расширялось издание научно-популярной литературы, использование хроникально-документальных и видовых фильмов. Но и существовало понимание необходимости: «при проведении культурно-массовой работы учитывать национальные особенности народностей, проживающих на территории РСФСР»44. При этом партия стремилась направить традиции в русло государственной культурной стратегии следующими мерами: «обеспечить создание новых высокохудожественных произведений народного прикладного и декоративного искусства, привлекать к творческой работе по созданию уникальных изделий и образцов для серийно-массового производства художественных изделий наиболее квалифицированных мастеров и художников, освобождая их от выполнения обычных копийных работ… практиковать систематическое проведение художественных выставок, общественных просмотров и конкурсов … с целью развития творческой инициативы народных мастеров, одаренных мастеров-художников, установить им индивидуальные производственные задания, упорядочить заработную плату, организовать рекламу изделий артелей художественных промыслов, используя печать, радио, телевидение, организацию специальных стендов, передвижных выставок и др.»45
Размывающим фольклорную традицию фактором стала этно-национальная политика, аккумулированная идеологемой «советский народ»46.
Хотя провозглашался отказ от создания «интегральной супернации», а культура провозглашалась как «национальная по форме и советская по содержанию», стратегия тотального союза наций и народов в формате «советский народ» была неизбежно разрушительной для аутентичной традиционной культуры, так как нарушала главные принципы её организации: локализация, отторжение «чужого», закрытость для диалога культур47.
Положение фольклорной культуры усложнилась с началом деконструкции СССР и советского социально-экономического строя. Художественная культура, перестав быть идеологическим средством, стала объектом вкусовщины, средством манипуляции искусством в угоду рыночным ставкам.
Таким образом, судьба фольклорной традиции в контексте советской культуры складывалась в зависимости от этапов развития куль-турной революции, воли коммунистической партии.
В течение всего советского периода культурная политика имела телеологических характер, была подчинена одной цели — построение коммунистического общества. Народные традиции изживали, приспосабливали и даже возрождали во имя унифицированной советской культуры. Место и роль фольклорной традиции в советской культуре в целом определялись практической пользой в деле формирования социалистического сознания трудящихся. В процессе созидания советского общества, превращения страны из аграрной в индустриальную фольклорная традиция угасала как имманентная быту и переходила в зону досуга как жанровое разнообразие художественной самодеятельности.
Список литературы Фольклорная традиция в контексте советской культуры
- Ахиезер А.С., Давыдов А.П., и др. Социокультурные основания и смысл большевизма. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 610 с.
- Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе: Пер. с англ. М.: Политиздат, 1991. 480 с.
- Жданов А.А. Сталин и космополиты/Андрей Жданов, Георгий Маленков. М.: Алгоритм, 2012. С.151-152.
- Заключение комиссии Отделения истории АН СССР о работах Л.Н. Гумилёва в ЦК КПСС/ Бригадина О.В. История культуры России новейшего времени: Комплекс учебно-информационных материалов. Мн.: ООО "Юнипресс", 2003. С. 543-544.
- Корниенко Н. "Песенное слово" и массовый читатель/ Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино/Под. Ред. М. Балиной, Е. Добренко, Ю. Мурашова. СПб.: Академический проект, 2002. С. 200-220.
- Культура в нормативных актах советской власти 1938-1960. М.: ЗАО "Юридический Дом "Юстицинформ", 2011. С.346 -347.
- Рассел Бертран. Практика и теория большевизма. Пер. с англ. издания 1920 г. М.: Наука, 1991. 128 с.
- Скрадоль Наталья. Сталинские гномы, или эпистемология советского остроумия//НЛО. 3/2013. № 121.
- Цветкова Г.А. Альтернативы самосознания послевоенного советского общества /Очерки истории культурно-исторического и национального самосознания / Под ред. А.И. Зимина. Тольятти, 2005. С. 237-257.