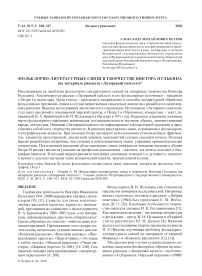Фольклорно-литературные связи в творчестве Виктора Пулькина (на материале рассказа "Лазоревый камзол")
Автор: Петров Александр Михаилович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 5 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема фольклорно-литературных связей на материале творчества Виктора Пулькина. Анализируется рассказ «Лазоревый камзол» и его фольклорные источники - предания о Петре I и вытегорах. Цели статьи - проследить направления и способы литературной обработки фольклорных преданий, описать случаи перестановки смысловых акцентов в ранней и поздней версиях рассказа. Выводы исследования заключаются в следующем. Источником «Лазоревого камзола» стал цикл преданий о похищенной царской одежде, о Петре I и Обрядиных, конкретнее - текст, записанный Н. А. Криничной и В. И. Пулькиным в Вытегре в 1971 году. В рассказе сохранены основные черты фольклорного предания: композиция, последовательность мотивов, образы, лингвистический каркас, стилистика. Название «Лазоревый камзол» не зафиксировано в фольклорной традиции и представляет собой плод творчества писателя. В рассказе расставлены иные, в сравнении с фольклором, топографические акценты. При помощи более активного использования стихоподобных фрагментов, элементов просторечной, диалектной лексики, междометий усилено смеховое начало. Поздняя версия разработана подробнее, она сложнее в композиционном плане, украшена орнаментальными элементами. Под влиянием преданий об исторических лицах появляется описание внешнего облика Петра. В рассказ вводится указание на профессию рассказчика - плотник, эта деталь отсылает к биографии писателя. В поздней версии рассказа заострена оппозиция телесного и духовного, тленного и вечного, усилено звучание темы исторической памяти, запечатленной в слове.
Виктор пулькин, фольклорно-литературные связи, предания, литература, фольклор, этнография, петр i
Короткий адрес: https://sciup.org/147227275
IDR: 147227275 | УДК: 82-3 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.505
Текст научной статьи Фольклорно-литературные связи в творчестве Виктора Пулькина (на материале рассказа "Лазоревый камзол")
Творческая деятельность Виктора Ивановича Пулькина (1941–2008) неразрывно связана с фольклором [9], [11]. Сюжеты для своих многочисленных рассказов писатель черпал из экспедиций, предпринятых совместно с фольклористом Н. А. Криничной в 1969–1985 годах, и из материалов, зафиксированных другими собирателями1. Среди собранных им текстов – значительная коллекция преданий. Произведения этого жанра легли в основу нескольких художественных циклов: «Кижские рассказы», «Вепсские напевы», «Происхождение красоты», «Перун-трава», «Это наша с тобою земля», «Медный вершник», «Чаша мастера», «Царские персты» [4: 206], [14: 248]. Сам писатель называл свои произведения «литературным пересказом» [4: 206].
Фольклоризм В. И. Пулькина уже становился предметом внимания исследователей. Например, анализ сказочных мотивов в рассказе «Добрая поветерь» (1984) был предложен Е. М. Неёловым [8: 13–20]. Ключевые особенности творчества писателя указаны И. К. Рогощенковым [11]. Как переходное явление – на границе литературы и фольклора – прозу В. И. Пулькина в обзорной статье рассмотрел Ю. И. Дюжев [4]. Важный вклад в исследование творчества писателя внесла Н. Л. Шилова, изучившая проблему фольклорнолитературных связей на материале «Северной Фиваиды» и «Кижских рассказов» [13], [14].
Мы рассмотрим случаи художественного освоения писателем фольклорных образов на материале рассказа «Лазоревый камзол», опубликованного в сборниках «Медный вершник» (1988)2
и «Царские персты» (2002)3. Книга «Медный вершник» подготовлена совместно с Н. А. Криничной, это
«итог многолетних поисков по всему Русскому Северу преданий, которые под пером автора стали отточенными сказами и сопровождаются историческими и фольклористическими комментариями» [9: 57].
Книга «Царские персты» была опубликована в канун 300-летия Петрозаводска и посвящена юбилею города [9: 57].
Центральная тема обоих сборников – образ Петра I, широко распространенный в севернорусских преданиях. «Лазоревый камзол» открывает оба сборника и формирует их стилистическую основу, задает тон, художественный колорит. Ранее этот рассказ в свете проблемы литературно-фольклорных связей специальному изучению не подвергался. Поскольку рассказ «Лазоревый камзол» публиковался дважды и его версии разнятся, мы предлагаем также сравнительный анализ этих версий. Насколько нам известно, ранее в этом аспекте проза В. И. Пулькина не изучалась.
«ЛАЗОРЕВЫЙ КАМЗОЛ»
И ЕГО ФОЛЬКЛОРНАЯ ОСНОВА
Рассказ «Лазоревый камзол» восходит к преданиям о Петре I и вытегорах (нюхчанах), Петре I и Обрядиных. Сюжетная основа преданий этого цикла – похищение у Петра кафтана (камзола) вытегорами (нюхчанами). Варианты опубликованы в фольклорных сборниках4. Один вариант («Петр Первый и вытегоры») опубликован в сокращенном, отредактированном виде в сборнике «Легенды. Предания. Бывальщины»5, это дублирующий текст для № 404 «Петр Первый и Обрядины» из сборника «Предания Русского Се-вера»6, поэтому он исключен нами из выборки. Указанная группа преданий различается в деталях, но основные мотивы, положенные писателем в основу рассказа, совпадают. Главный – мотив похищения царской одежды7 (Предания: 268– 269). По В . Г. Базанову, эти предания примыкают к группе бытовых рассказов и анекдотов о Петре I [1: 142]. Сюжет фиксировался многократно, разными собирателями на территории Русского Севера; часть текстов опубликована в периодической печати и научных изданиях, часть – хранится в архивах. Неопубликованные варианты указаны в сборниках «Северные предания (Бело-морско-Обонежский регион)»8 (Предания: 268– 269, 271, 274–275). Иногда «в противовес» преданию об украденной одежде возникает предание о дареной одежде (дареном кафтане) (Предания: 187, 268); зафиксирован случай контаминации мотивов похищения царской одежды и происхождения названий Вытегра («Вы – тигры») и Охта9.
В нашем распоряжении имеется 19 вариантов преданий о похищении царской одежды: в сборнике «Северные предания (Беломорско-Обонеж-ский регион)» – № 17, 204, 227, в сборнике «Предания Русского Севера» – № 346, 347, 348, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406. Описание мотивов, которые формируют их сюжетную основу, представлено в комментариях и указателях10 (Предания: 254–277, 278–294).
Наиболее интересен для нас текст № 404 (Предания: 213–214). Это предание «Петр Первый и Обрядины», записанное в г. Вытегре Вологодской области 7 июля 1971 года Н. А. Криничной и В. И. Пулькиным (первая публикация – в сборнике «Легенды. Предания. Бывальщины»11). Именно этот вариант стал прямым источником для рассказа «Лазоревый камзол». В предании рассказывается о том, как Петр, уставший посреди лесов и болот, заснул в деревне Шестовой, в трех километрах от Вытегры. Пока он спал, у него украли камзол. Когда воров нашли и привели к царю, те стали оправдываться: «…мы украли у тебя камзол, хотели себе шапки сшить, нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам, чтобы о тебе вечно помнить, что ты здесь был» (Предания: 213). Петр простил воров и назвал их камзольниками. За вытегорами закрепилось это прозвище, а вору и всем проживающим в этой местности семьям государь дал фамилию Обрядины : от «обрядить» – спрятать (Предания: 324); прибирать, похищать (Царские персты: 169).
Сюжеты на «воровскую» тематику не редки в традиционной культуре. Фольклорные тексты разных жанров о воровстве обильно фиксировались собирателями [6]; само воровство как явление интерпретируется современными исследователями в качестве «универсальной мифологемы» [2]. В этом плане предание о Петре и Обрядиных плавно вписывается в номенклатуру категорий народной культуры, и этим же, вероятно, можно объяснить устойчивость предания на временной шкале.
Несмотря на видимый реалистический характер повествования, с типичной для жанра предания установкой на достоверность, в тексте обнаруживаются и некоторые элементы мифологического дискурса. К одному из важнейших магических атрибутов вора, которые, по фольклорным представлениям, обеспечивают ему такую сверхъестественную способность, как невидимость, относится шапка-невидимка (аналог чудесного предмета волшебной сказки) [3: 128–129]. «Шапку-невидимку рекомендовалось украсть, отнять или выменять у банника, домового, черта или лешего» [3: 128]. Можно предположить, что не случайно вор, оправдываясь, упоминает именно шапку, а не какой-либо другой предмет одежды. Неудачная попытка «нашить шапок» эквивалентна неудаче, которую вор потерпел в своем ремесле.
Кража предмета одежды у спящего персонажа напоминает о краже шапки-невидимки у спящего банника [3: 129]. Совмещение функций исторического лица и мифологического персонажа типично для преданий [5: 193–220]. При этом, согласно традиционным мифологическим представлениям, кража предмета «у лиц, имеющих высокий сакральный статус», является «дополнительным средством сакрализации предмета» [12: 257]. В качестве такого лица в предании выступает царь.
Типична для народной культуры и эвфеми-зация воровского дела [3: 134]. В некоторых вариантах предания в качестве устойчивого эвфемизма выступает глагол «обрядить» (Предания: 211–214). Глагол «обрядить» иногда замещает глаголы «украсть», «похитить», «обворовать» и т. п. и далее уже прочно ассоциируется с циклом преданий о похищении царской одежды. Имеются свидетельства того, что сказители чувствуют разницу между «украсть» и «обрядить»:
«– Почему, ты зачем это украл камзол?
- А я, говорит, не украл, а обрядил !»12.
В некоторых случаях употребляется глагол «спрятать» (№ 401, 403, 404 в сборнике «Предания Русского Севера»); иногда коллизия получает положительное переосмысление: «…прежде всего покрой сняли, а потом, конечно, возвратили ему» (Предания: 213). Однако мифологические мотивы получают в предании уже историческую интерпретацию: эпизод трактуется и рассказчиками, и слушателями как бытовой, без примеси мифологии. Эпизод же суда и прощения вора наполнен ироническими интонациями, свойственными народной смеховой культуре.
Композиция, последовательность мотивов и блоков мотивов, топика, лингвистический каркас, стилистика, наконец, объем варианта № 404 наиболее близки литературной версии. Приведем некоторые примеры. Оба текста (и фольклорный, и литературный) в начальном фрагменте содержат указания на отдых Петра в трех километрах (верстах) от Вытегры, в деревне Шестовой; имеется описание свиты Петра:
Фольклорный текст
Ну вот, Петр, побывав здесь в тысяча семьсот одиннадцатом году, отдыхал в трех километрах от Вытегры, значит; деревня Шестова там была. Вероятно, утомили Петра и его свиту наши болота, наши леса – и Петр заснул, заснула его свита (Предания: 213).
Литературный текст
Утомили Петра наши леса, болота. Остановился в деревне Шестовой, в трех верстах от Вытегры. Сам уснул. Свита повалилась (Медный вершник: 19).
Мотив поиска воров обнаруживает столь же значительные текстуальные совпадения:
Фольклорный текст
Ну, пустились в розыски. Но наши северные деревни ведь очень небольшие. А в те времена, конечно, это было три-четыре дома, может быть, – и вся деревушка маленькая, северная, так что найти было это все легко. Ну, и быстро нашли – воров нашли и камзол (Предания: 213–214).
В фольклорное предание ближе к финальной части вмонтирована прямая речь рассказчика, ссылаю-
Литературный текст
Свита и пустилась. Наши деревнюшки небольшие, все тут. В иной, может, три-четыре избенки. Нашли и воров, и камзол (Медный вершник: 20).
щегося на собственный опыт. В рассказе В. И. Пуль-кина воспроизведена и эта речевая модель:
Фольклорный текст
Между прочим, знаете (вот это уже точно), я эту кличку сам испытал. В молодости-то приходилось ездить: вот со знакомыми там, значит, встретишься: «Ты откуда?» «Да вот с Вытегры еду, в Вытегре и живу, живу, значит». «Камзольник!» (понимаете?) (Предания: 187).
Как отметил Ю. И. Дюжев, традиция изложения от первого лица унаследована В. И. Пульки-ным от русской литературы XIX века,
«…когда вышедший из национальной, народной среды герой получал возможность наиболее полного
Литературный текст
Это я на себе испытал. В молодости приходилось много ездить. В Питере ли, в Петрозаводске спросят: «А ты, парень, откудова сам- то?» «С Вытегры. Вытегор коренной ». « Ну, дак ты – камзольник! У Петра Первого камзол обрядил!» (Медный вершник: 20–21).
самовыражения, а роль автора ограничивалась краткими авторскими комментариями, а также предисловием или послесловием» [4: 208].
Этим, вероятно, объясняется то, что В. И. Пуль-кин предпочитает короткие и сверхкороткие предложения; по всей видимости, такой синтаксис необходим писателю для имитации спонтанной разговорной речи.
Среди значимых направлений переработки фольклорного материала укажем название – «Лазоревый камзол». Эпитет лазоревый не употребляется ни в одном из вариантов фольклорного предания – ни в условных названиях, ни в самих текстах. Согласно рассказу, камзол этот «шелком шит, цветами-травами» (Медный вершник: 20). Такая орнаментальность чужда фольклорным преданиям. В данном случае писатель выбрал путь эстетизации фольклорного образа. Возможно, здесь сыграл роль биографический контекст: известно, что В. И. Пулькин совмещал литературную деятельность с практиками художника и сам иллюстрировал некоторые свои публикации, а в литературных текстах много внимания уделял народному декоративному творчеству.
В литературной версии раздвинуто географическое пространство: рассказчик упоминает свои поездки в Петрозаводск , в Питер . Любопытно, что в тексте, опубликованном в 1988 году, употреблено разговорное наименование Питер (не Ленинград ). Думается, такая топография призвана усилить «петровский» мотив произведения: Петр – Питер – Петрозаводск .
Интересен и финал рассказа. Он представляет собой обращение повествователя к слушателю: «Моя-то фамилия какая? А Обрядин, пиши!» (Медный вершник: 21). В фольклорном предании этого нет. Писатель воспроизводит ситуацию записи фольклорного текста, что нельзя не связать с его большой экспедиционной работой. Эта же «стилистическая и нарративная модель» используется В. И. Пулькиным и в «Кижских рассказах» – для «совмещения фантастического и документального» [14: 253], и в основе такой модели лежат полевые записи фольклористов (с указанием рассказчика, места, времени записи), на что ранее обратила внимание Н. Л. Шилова [14: 253].
Необходимостью сохранения разговорных интонаций обусловлен и выбор писателем предания о вытегорах . Напомним, что на этот же сюжет имеются предания о нюхчанах . Но для сказовой, балагурной манеры В. И. Пулькину необходима рифма. Такую рифму обеспечивает только сочетание «Вытегоры – воры».
Сказовую, отчасти балагурную интонацию привносит в текст и междометие «Ой», нехарактерное для мужской речи и стилистически диссонирующее с суровым образом Петра. В фольклорных текстах этой реплики нам отыскать не удалось:
«– Ведь твой царев лазоревый камзол украли!
– Ой! Который шелком шит, цветами-травами? Сыскать воров, казнить!» (Медный вершник: 20).
Рассказ В. И. Пулькина опубликован, как мы отмечали, как минимум дважды. Возможны и другие – неизвестные нам – версии: особенность творческого метода писателя заключается в том, что он разрабатывал художественную тему на протяжении ряда лет, привнося в текст новые краски, расширяя или сокращая тот или иной рассказ. В связи с этим может вызвать сложности определение канонического текста. Указанная особенность, в частности, отмечена Н. Л. Шиловой на материале цикла «Северная Фиваида» [13: 473].
В более поздней версии рассказа появляются новые мотивы.
-
1) В завязке действия появляются новые топосы – Белое море , Архангельск :
«Шел нашим суземьем – залесной стороной – Осу-дарь в подсиверную, на Белое море. Корабли рубить в Архангельске» (Царские персты: 13).
Источниками обновленной топографии рассказа послужили, очевидно, и тексты других преданий, в которых фигурирует Архангельск (например, текст № 345 в сборнике «Предания Русского Севера», с. 268), и исторические сведения о пребывании Петра в Вытегорском погосте в 1693, 1694, 1702 годах проездом в Архангельск и в 1711 году «во время разысканий относительно соединения рек Ковжи и Вытегры» (Предания: 254). Белое море могло проникнуть в текст под влиянием преданий о Петре и нюх-чанах, однако этот топоним настолько тесно ассоциируется с географией Русского Севера, что его появление было, очевидно, лишь вопросом времени.
-
2) Приводятся подробные сведения о деревне Шестовой:
«Там сроду лоцмана жили. Шестами полосатыми фарватер на речке, на былом Гостин-Немецком волоке мерили. Потом на Мариинском канале стали служить» (Царские персты: 13).
Сведения о Гостин Немецком волоке писатель мог почерпнуть из исторических источников или из научной литературы: «этот волок входил в состав транзитного пути из Волги в Балтийское и Белое море» (Предания: 254), «упоминается уже в писцовой книге Юрия Сабурова – 1496 г.» (Предания: 254), [7: 43]; был «затоплен при строительстве гидротехнических сооружений Волго-Балтийского водного пути» (Предания: 254). Мариинский канал (Мариинская система) многократно упоминается в преданиях о Петре; «несмотря на то, что Мариинская система… возникла только в 1810 г., сказители приписывают осуществление этой идеи Петру»13.
-
3) Появляется описание внешнего облика царя, отсутствующее в фольклорных источниках и в ранней версии рассказа:
«У царя родинка на правой щеке. Волосы – добро чистое» (Царские персты: 14).
Особого внимания здесь заслуживает такой штрих, как родинка на правой щеке царя. В портретной традиции изображения Петра I нам не удалось обнаружить источников этой художественной детали; безуспешны оказались и попытки найти соответствия в кинематографе. Однако здесь возможны иные источники визуализации образа. В частности, в фольклорных преданиях об исторических лицах (в том числе о Петре I) фигурируют так называемые «царские знаки», которые «у подлинных царей являются природными, а у самозванцев – поддельными» [5: 197]. Эти знаки важны для реализации мотива узнавания царя. Можно предположить, что В. И. Пулькин опирался именно на эту фольклорную традицию, приспособив ее к нуждам собственного рассказа. По данным Н. А. Криничной, маркирование царя сакральными знаками (или талисманами, татуировками) восходит к мифологии и является более архаичным, нежели физическое, портретное описание, являющееся одним «из самых поздних завоеваний народной исторической прозы» [5: 197, 198]. Таким образом, в рассказе имитируется архаический тип повествования, хронотоп события получает мифологическую окраску.
-
4) Появляется указание на профессию рассказчика:
«Пильщик я. Плотник хоромный и корабельный. А надо – и шкаф сострою. Распишу цветами и травами. На все руки. А камзола – не таскивал» (Царские персты: 14).
Эта реплика отсутствует не только в первой редакции рассказа, но и в фольклорных текстах. Возможно, здесь нашли отражение подробности реальной биографии писателя, который «работал столяром, учителем рисования, журналистом, художником-дизайнером» [9: 56].
Творческой переработке в поздней версии рассказа подверглись и те мотивы, которые имелись в ранней версии. Рассмотрим некоторые случаи:
«Сам уснул. Свита повалилась»(Медный вершник: 19);
«Осударь уснул. Свита с великой устали повалилась – как овсяные снопы» (Царские персты: 13).
Здесь и дополнительная историческая стилизация (Осударь ), и мотивировка сна ( с великой устали ), и обогащение художественной ткани текста образным сравнением ( как овсяные снопы ).
В диалоге Петра и вора любопытна замена писателем эпитета: деревенский вместо старопрежний :
-
«– Великий осударь, вели слово молвить! – самый смекалистый из них, старопрежних татей, вперед выступил»(Медный вершник: 20);
«– Великий Осударь! Вели слово молвить! – самый смекалистый из них, деревенских татей, шишей, вперед выступил» (Царские персты: 13–14).
Так фокус внимания в хронотопе рассказа сдвигается от времени к месту, актуализируется образ родины, причем она наделяется чертами некоторой идеализации: это обязательно северная деревня, населенная людьми простыми, но «смекалистыми». Это исчезнувшая родина, память о которой хранится только в преданиях.
Нейтральное внуки-правнуки писатель заменил оценочным внучоныши , включив более личный, семейно-бытовой регистр описания, добавив эмоциональности; этнографизм повествования поддержан субстантивным дублетом шлыки-шапки, отсутствующим в ранней версии:
«– Ведь мы чего камзол-то обрядили… припрятали! Хотели шапок нашить из него. И себе, и внукам-правнукам . Штоб, значит, помнить, как ты к нам, в зале-сье-суземье, приходил. Память-то, осударь, подороже камзола будет. Камзол, знаешь, изотрется!» (Медный вершник: 20);
«– Мы чего, думаешь, камзол обрядили? Не ради корысти, нам в нем не пахать. Хотели, знаешь, шлыков-шапок нашить. И себе, и внучонышам … Штоб помнить из веку в век, как ты к нам, в суземье, захаживал. Как с нашими стариками разговоры разговаривал. Подмогу брал. Память-то, Осударь, подороже камзола будет. Одежа изотрется . Слово останется » (Царские персты: 14).
Кроме того, В. И. Пулькин в поздней версии заострил оппозицию телесного и духовного , тленного и вечного : «Одежа изотрется. Слово останется». При помощи парцелляции писатель дробит одно предложение на два, сталкивая части по принципу контраста (писатель по-прежнему предпочитает короткие предложения); каждый компонент здесь приобретает дополнительный смысловой акцент. Память, по мысли писателя, запечатлена в слове : это и само фольклорное предание о царе, и литературные тексты, ему посвященные. Так В. И. Пульки-ну простым решением удается добиться большей историко-философской глубины, разноуровнево-сти текста, передать представление о неумолимо идущем времени, о «ходе веков», о ценности исторической памяти, о нетленности человеческого слова. Писатель ощущает себя
«реставратором памяти» (Царские персты: 51), «который доносит до современников заповедную красоту рожденных в северных деревеньках преданий, делает все возможное, чтобы не истаяли традиции дедов и прадедов» [4: 210].
Память – это и самое хрупкое, и самое прочное из всего, чем наделен человек:
«Нет ничего ранимее памяти. Лишь одно поколение неблагодарно забудет песни, сказки, и навсегда опустошится душа народа, возникнет угроза его существованию. Перестанет воодушевляться красотой речь.
Поколения родных людей навечно сплочены прежде всего общей памятью, ответственностью перед ней. Память хранит прошлое для настоящего и во имя наступления будущего. Нет ничего прочнее памяти. Меняется лик земли. Возникают и никнут империи. Предание вечно живо» (Царские персты: 166).
Помимо перечисленных языковых средств, в рассказе «Лазоревый камзол» ретроспекция поддерживается также средствами графическими. Например, семантически значимо написание в позднем издании слова «Осударь» с прописной буквы. Напомним, что красиво оформленный сборник «Царские персты» был подготовлен В. И. Пулькиным к юбилейной дате – 300-летию Петрозаводска. Это значимый контекст для интерпретации измененной, в сравнении с изданием 1988 года, графики. В постсоветский период – период реабилитации имперской эпохи – писатель мог исправить строчную букву на прописную ради стилизации под старинный текст. В то время в изданиях православного, патриотического, почвеннического характера именно прописная буква в слове «Осударь» была предпочтительной. В советском издании использовать прописную букву было едва ли возможно по идеологическим причинам14. Это яркий случай «окнижнения» фольклорного текста, которому, по причине его устности, графические способы выражения культурных смыслов недоступны.
В поздней редакции рассказа В. И. Пулькин при помощи эпитета шелковая привносит в повествование нотку лиризма, ср.:
«Петр, под березонькой сидючи, и задумался» (Медный вершник: 20);
«Петр, под шелковой березонькой сидючи, и раздумался» (Царские персты: 14).
Любопытен штрих к реплике Петра, появившийся в поздней версии:
«– Ладно уж. Берите одежу. Еще наживу. Камзольни-ки вы этакие…»(Медный вершник: 20);
«- Ладно уж... Берите одежу, кроите колпаки . Еще наживу. Камзольники вы этакие» (Царские персты: 14).
Здесь добавлен наказ «Кроите колпаки», что наполнило диалог элементами иронии, тонкого, деликатного юмора, обозначило снисходительное, насмешливое отношение Петра к незадачливым ворам.
Смеховое начало в поздней версии поддерживается и стихоподобными фрагментами. Так, помимо дразнилки «Вытегоры – воры», можно упомянуть и такой зарифмованный хореический сегмент: «– Вытегор деревни Шестов ой . Осударю супостат прям ой !» (Царские персты: 14).
В фольклорных преданиях возможность такой рифмовки представлена в зачаточном виде («Вы-тегоры – воры»). В. И. Пулькин развивает смеховое начало народной культуры; в его тексте усилены анекдотические мотивы. В качестве любопытной параллели можно привести пример из творчества Б. В. Шергина, имитирующего народный стих:
Птица-синица За море летела, Перо уронила. Беру перо в руки, Пишу письмо от скуки15.
ВЫВОДЫ
Мы рассмотрели рассказ В. И. Пулькина «Лазоревый камзол» в свете проблемы фольклорных источников. Выводы представленного исследования заключаются в следующем.
Источником «Лазоревого камзола» стал цикл преданий о похищенной царской одежде, о Петре I и Обрядиных, конкретнее – текст № 404 из сборника «Предания Русского Севера», записанный Н. А. Криничной и В. И. Пулькиным в Вытегре в 1971 году. В рассказе сохранены основные черты фольклорного текста: композиция, последовательность мотивов и блоков мотивов, образы, топика, лингвистический каркас, стилистика. Название «Лазоревый камзол» не зафиксировано в фольклорной традиции и представляет собой плод творчества писателя. В рассказе расставлены иные, в сравнении с фольклорным источником, топографические акценты: появились Петрозаводск, Питер, Архангельск, Белое море, Гостин Немецкий волок, Мариинский канал, что наполнило повествование исторической конкретикой. Указанные топонимы могут бытовать в народных преданиях на этот сюжет в разрозненном виде, но в рассказе В . И. Пулькина они сконцентрированы на тесном повествовательном пространстве. В его текстах усилено смеховое начало. Усиление достигается при помощи более активного использования стихоподобных фрагментов, элементов просторечной, диалектной лексики, междометий и т. п. В поздней версии рассказа появляется описание внешнего облика Петра. Предполагаемые источники визуализации образа – предания об исторических лицах. В поздней версии появляется указание на профессию рассказчика (пильщик, плотник, способный «расписать шкаф цветами и травами»). Предполагаемый источник этой детали – личность самого писателя, который работал и столяром, и учителем рисования, и художником. В поздней версии заострена оппозиция телесного и духовного, тленного и вечного; существенно усилено звучание темы исторической памяти, запечатленной в слове. Версия 2002 года разработана В. И. Пулькиным подробнее, содержит больше деталей, сложнее в композиционном плане, украшена орнаментальными элементами. Это, с одной стороны, шаг в сторону от фольклорной традиции, с другой – форсирование, творческое раскрытие языковых, стилистических средств, содержащихся в фольклоре в свернутом виде. Писатель наполняет новыми красками стершиеся образы, полузабытые мотивы. Это роднит его с художником.
В книге «Русская сказка» фольклорист В. Я. Пропп заметил: «…писатель, черпающий из сокровищницы фольклора, должен не только воспринимать народную традицию, он должен ее преодолеть» [10: 29]. Творческий путь В. И. Пуль-кина в этом смысле представляет собой преодоление . На протяжении многих лет писатель старался найти лучшую литературную форму для обработки фольклорных сюжетов. Его рассказ
«Лазоревый камзол» – это пример преодоления народной традиции, перекодировки языков и приращения смыслов; пример литературного освоения писателем традиционной культуры Русского Севера.
БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю искреннюю благодарность Н. Л. Шиловой, А. В. Пигину, Е. В. Захаровой, А. А. Ма-точкину за ценные консультации по общим и частным вопросам литературоведения и лингвистики.
* Статья подготовлена в Карельском научном центре РАН в рамках госзадания.
Список литературы Фольклорно-литературные связи в творчестве Виктора Пулькина (на материале рассказа "Лазоревый камзол")
- Базанов В. Г. Народная словесность Карелии. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1947. 280 с.
- Бауэр Т. В. Воровство как тотальное зло: реальность и миф // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. Общественные и гуманитарные науки. 2014. № 7 (144). С. 25-30.
- Бауэр Т. В. Магические атрибуты вора: обеспечение невидимости (по материалам крестьянской культуры второй половины XIX - начала XX века) // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 1. С. 127-138.
- Дюжев Ю. И. На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина) // Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона: Материалы междунар. науч. конф. Петрозаводск, 2005. С. 206-211.
- Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: вопросы генезиса и структуры / Отв. ред. В. К. Соколова. Л.: Наука, 1987. 232 с.