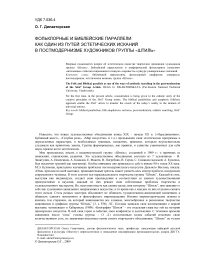Фольклорные и библейские параллели как один из путей эстетических исканий в постмодернизме художников группы «Штиль»
Автор: Дилакторская Ольга Георгиевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 2 (6), 2009 года.
Бесплатный доступ
Впервые поднимается вопрос об эстетическом единстве творческих принципов художников группы «Штиль». Библейский параллелизм и анафорический фольклоризм позволяют «штилевцам» события современного социума «перевести» в ракурс универсальных значений. Ключевые слова: библейский параллелизм, фольклорный анафоризм, универсум, постмодернизм, эстетические искания, группа «Штиль».
Библейский параллелизм, фольклорный анафоризм, универсум, постмодернизм, эстетические искания, группа "штиль"
Короткий адрес: https://sciup.org/170175166
IDR: 170175166 | УДК: 7.036.4
Текст статьи Фольклорные и библейские параллели как один из путей эстетических исканий в постмодернизме художников группы «Штиль»
Известно, что новые художественные объединения конца XIX – начала ХХ в. («Передвижники», Бубновый валет», «Голубая роза», «Мир искусства» и т.д.) предъявляли свои эстетические программы в определенных параметрах, в необходимых границах, концептах, правилах, которым неукоснительно следовали как принятому закону. Группа формировалась, как правило, в единстве узаконенных для себя норм, прежде всего эстетических.
Мне приходилось писать о владивостокской группе «Штиль», созданной в 1989 г.: о причинах ее появления, становления, развития. Это художественное объединение состояло из 7 художников – И. Зинатулин, А. Ионченков, А. Камалов, Е. Макеев, В. Погребняк, В. Серов, С. Симаков (восьмой, А. Куценко, был исключен группой как плагиатор). Особое внимание оно привлекло к себе в начале 90-х годов ХХ века. М.Э. Куликова, пристально изучавшая проблемы постмодернистского искусства Дальнего Востока, писала: «Итак, проходя по всей выставке, проницательный зритель может увидеть весь спектр проблем, волнующих современного человека. В этом состоит вся парадоксальность творчества группы “Штиль”. Каждый из них, выступая как индивидуум, создает свои произведения в соответствии со своими художественными пристрастиями и вкусами, каждый из них решает свои собственные проблемы творчества и художественного мастерства. Но, выступая вместе как единое целое, имя которому “Штиль”, они заявляют о себе как художники социального направления в искусстве, в то время как о каждом из них отдельно сказать этого нельзя. Столь разных мастеров объединяет не общность художественно-живописной концепции, а общность единого жизненного и философского мироощущения. Именно мировоззренческие основы и явились тем стержнем, на который нанизывается все сложное, многообразное и разноликое творчество живописцев и графиков группы “Штиль” [3, с. 556]. Л.Г. Козлова записала свои воспоминания о первой выставке «штилевцев» в Хабаровске (1989): «Биография “Штиля” – это отдельная глава все той же истории приморского искусства. В ней свои герои и события, свои конфликты и достижения. С течением времени священное число “семь” (члены группы – О. Д. ) естественным ходом событий изменяло свою количественную суть, не затрагивая нисколько основ самого творческого объединения. “Штиль” не только
ДИЛАКТОРСКАЯ Ольга Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русской филологии и культуры (Институт переподготовки и повышения квалификации преподавательских кадров ДВГТУ, Владивосток).
обозначил новые возможности приморского искусства – он был своеобразным знаком, а в середине “обвальных” 1990-х и символом всего дальневосточного искусства, существующего вне конъюнктуры и вне “погоды на дворе”. <…> потребность творить новый мир ярко проявилась в характерах всех “штилевцев”, когда в марте 1989 года состоялось первое знакомство “Штиля” с хабаровскими зрителями, главным итогом выставки, а скорее уроком, стало понимание того, что пафос жизни как раз и состоит в непрерывности процесса самосозидания <…> зрителей притягивали смелость красочных сочетаний С. Симакова (“Агропром – за здоровье Люцифера”), романтические живописные формулы И. Зинатулина (“Движение лилии”), сложная палитра живописи А. Ионченкова (“Возрождение”)… Обращение к европейской традиции, к истории искусств было для всех молодых приморских худ ожников искушением и вызовом одновременно. И все же если в работах других “штилевцев” легко обнаруживали себя и поклонение чистоте матиссовской линии, и уроки Сезанна, и “белая” зависть к изощренной тонкости Шиле и особой свободе Бойса, то произведения Камалова имели “четкий обратный адрес” – Россия» [2, с. 408].
В двух приведенных фрагментах высказаны две главные мысли:
-
1) единство группы «Штиль» обеспечивается социальным направлением, общностью мировоззренческих установок и исторического времени, но не общностью художественно-живописной концепции;
-
2) единство группы «Штиль» оценивается в привычных параметрах: в обращении худ ожников к европейской традиции, к истории искусств («матиссовская линия», уроки Сезанна, Шиле, Бойса), в склонности к стилистическому новаторству, к стилизаторству.
Безусловно, оба суждения верны. Вместе с тем мне хотелось бы выявить именно то, что указывает на эстетические устремления худ ожников этой группы (не тематические, идеологические, мировоззренческие, а художественно-концептуальные). Л.Г. Козлова усмотрела общность художников группы в их обращении к европейской традиции, не найдя ее в творчестве А. Камалова, что в определении общности группы не совсем корректно. Мы помним, что участники «Голубой розы» обратились к стилизации и театрализации искусства рококо, в XVIII веке отыскивая идеи, откликающиеся ХХ веку. Группа «Мир искусства » стремилась в теме Петербурга указать на связи европейской и русской традиции. Каким же участники группы «Штиль» видели для себя путь нового искусства? Где его отыскивали?
Как видно, «штилевцы» стремились отразить окружающий их мир в двух ракурсах, универсализирующих настоящее, представить в затрапезах современности вечное. Они выбрали два способа, два принципа – параболических по своей сути: библейский параллелизм (одна ветвь универсализма) и фольклорный анафоризм (вторая ветвь). Первый позволяет понять Библию как современную цивилизацию [1, с. 10], второй – выявить в фольклоре общемировые, народные, универсальные основы бытия, нащупать общее для всего человечества. Так, художники-«штилевцы» поставили момент 90-х год ов ХХ века в центр вечно происходящего, всегда бывшего, только огранивали новые смыслы в давнопрошедшем. А. Камалов и В. Серов в «Гостинке» универсализировали быт, развернув его в Бытие «homo soveticus». Эта мысль еще ярче высказана в их совместной работе-диптихе «Житие-I», «Житие-II» (1993). «Тайная вечеря» (2004) С. Симакова через параллелизм с библейским сюжетом выявляет обратный универсальный смысл христианской истории, так сказать, нейтрализует его. Е. Макеев в раб оте «Модель и ее художник» (2004) – в вариации на миф о Галатее – дает понять, что не художник, а его модель определяет границы прекрасного, не он, а она переделывает его. А. Ионченков обращается к бессюжетной живописи: в холсте «Возрождение» он ищет способы универсальных обобщений, принцип «перевода» современного момента в вечность (об этом и цикл «Осенняя», 2004).
Обращение к фольклору и к мифам народов мира отражено и в работах А. Камалова («Авель и Каин», 1993; «Солнцеблин», 1994; «Рыба», 1997), и в произведениях С. Симакова («Похищение Кентавра», 1993; «Сирин», 1993; «Конек-Горбунок», 1993), и в картинах В. Серова («Три Грации», 1997), которые были представлены на разных выставках группы «Штиль».
В. Погребняк, привязанный к тематике социума, тревожится неясными аллюзиями – «Свет уходящий», «Свет приходящий» (1993), «Восхождение» (2004). Совершенно очевидно, что художникам-«штилевцам» тесно в границах своей реалистической современности.
Выход к иноцивилизациям наблюдается в творчестве И. Зинатулина: «Послание мусульманам» (1993), «Мусульманин XXI» (1993), «Е. геометрия» (2001), «PXR – 5» (2001), «Дорога» (PSY Power) (2001).
Стремление зафиксировать текущий момент, сиюминутное, бытовое как факт вечнопротекающий, многократноотражающийся и повторяющийся при помощи библейского параллелизма и фольклорного анафоризма, с целью выяснения нового, не свойственного первоначальному, смысла, характерно для всех участников группы «Штиль». Именно в осознанном вводе современного момента в универсум явлены эстетические принципы создания особой картины мира в стиле постмодернизма, как ее видели и строили художники группы «Штиль».
С помощью библейских и фольклорных мотивов в эстетике «штилевцев» сформировалась фундаментальная категория постижения ими действительности – категория фантастического, но это тема другой работы.
Список литературы Фольклорные и библейские параллели как один из путей эстетических исканий в постмодернизме художников группы «Штиль»
- Десницкий А. Поэтика библейского параллелизма. М.: ББИ, 2008. 564 с.
- Козлова Л.Г. Слышал. Видел. Чувствовал. Андрей Камалов: In memoriam//В потоке времени и памяти… Живопись и графика А.В. Камалова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 404-409.
- Куликова М.Э. О выставке группы «Штиль» в 1993 (галерея «Артэтаж», Владивосток)//В потоке времени и памяти… Живопись и графика А.В. Камалова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 555-556.