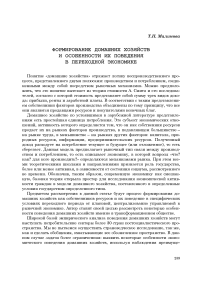Формирование домашних хозяйств и особенности их поведения в переходной экономике
Автор: Малинова Татьяна Петровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: 3 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
Автор исходит из понимания домашних хозяйств, которое используется в современной экономической теории, и предполагает, что такое понимание имеет гносеологические корни в представлениях А. Смита о стоимости товара как сумме доходов от трех факторов производства. Автор показывает, что формирование сектора домашних хозяйств есть результат основного системного преобразования переходного периода - приватизации. Приватизация в России в силу её ускоренных темпов, отсутствия необходимых финансовых институтов и низких доходов населения оказалась менее «демократичной», чем в других странах и чем предполагалось властью. Это привело к тому, что уже на стадии формирования потребительского сектора был заложен высокий уровень имущественной дифференциации. В статье рассматриваются особенности повседневного поведения домашних хозяйств, которые в определенной степени являются предпосылкой сбоев в воспроизводственном процессе.
Домашние хозяйства в России, приватизация в России, поведение домашних хозяйств, экономика России в переходный период
Короткий адрес: https://sciup.org/144152839
IDR: 144152839
Текст научной статьи Формирование домашних хозяйств и особенности их поведения в переходной экономике
ФОРМИРОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Понятие «домашние хозяйства» отражает логику воспроизводственного процесса, представленного двумя полюсами: производством и потреблением, соединенными между собой посредством рыночных механизмов. Можно предположить, что это понятие вытекает из теории стоимости А. Смита и его последователей, согласно с которой стоимость представляет собой сумму трех видов дохода: прибыли, ренты и заработной платы. В соответствии с таким представлением собственники факторов производства объединены по тому принципу, что все они являются продавцами ресурсов и покупателями конечных благ.
Домашнее хозяйство по устоявшимся в зарубежной литературе представлениям есть простейшая единица потребления. Это субъект экономических отношений, активность которого определяется тем, что он как собственник ресурсов продает их на рынках факторов производства, в подавляющем большинстве – на рынке труда, в меньшинстве – на рынках других факторов: капитала, природных ресурсов, информации, предпринимательских ресурсов. Полученный доход расходует на потребление текущее и будущее (или отложенное), то есть сберегает. Данная модель предполагает рыночный тип связи между производством и потреблением, то есть описывает экономику, в которой вопросы «что? как? для кого производить?» определяются механизмами рынка. При этом всеми теоретическими школами и направлениями признается роль государства, более или менее активная, в зависимости от состояния социума, рассмотренного во времени. Обозначив, таким образом, современную экономику как смешанную, базовая теория открыла простор для исследования экономической активности граждан в модели домашнего хозяйства, поставленного в определенные условия государством определенного типа.
Предметом рассмотрения в данной статье будут процесс формирования домашних хозяйств как собственников ресурсов и их поведение в специфических условиях переходного периода от плановой, централизованно управляемой к рыночной экономике. Автор ставит своей целью рассмотреть некоторые особенности поведения домашних хозяйств именно в трансформационном обществе.
Широкой базой эмпирического анализа поведения домашних хозяйств могут выступать потребительские секторы более 30 стран постсоциалистического пространства. Мы не пытаемся осуществить страноведческое исследование, так же, как и cделать обобщения, охватывающие все обозначенное пространство. В данном случае задача более ограниченная: выявить некоторые особенности экономического поведения домашних хозяйств, используя наблюдения преимуще- ственно российской действительности и высказать умозаключения относительно государственного воздействия на экономику.
Актуальность такого подхода очевидна: используя зарубежный опыт, мы имеем дело с государственным регулированием, построенным на моделях поведения индивидов в рамках высокоразвитых рыночных структур. Перенесенный на почву переходной экономики, этот опыт дает причудливые, искаженные, часто неэффективные результаты. Мы предполагаем, что одной из причин этого являются особенности экономического поведения, присущего субъектам данного социума.
Системные преобразования, в основе которых лежат преобразования отношений собственности, по сути и представляют собой зарождение сектора домашних хозяйств в том понимании, в каком он представлен моделью кругооборота товаров и доходов. Процесс приватизации государственных предприятий обусловливает появление субъектов – собственников ресурсов, отличных от государства, удовлетворяющих свои потребности за счет дохода, полученного от реализации «доставшегося» фактора производства. Характер и конкретные формы приватизации в трансформирующейся экономике обусловливают общую картину сектора домашних хозяйств как собственников ресурсов.
Каким образом проходил процесс приватизации в России с точки зрения формирования сектора домашних хозяйств как собственников ресурсов?
Первоначально было решено, что инструментом приватизаации будут именные приватизационные счета. По Закону РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1529-I «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР», для каждого гражданина должен был открываться именной приватизационный счет, средства с которого передавались бы по наследству, но их нельзя было бы продавать другим лицам. Многие экономисты сходятся теперь во мнении о том, что это был тот путь, который мог бы обеспечить более или менее равное участие граждан России в приватизационном процессе. Именно приватизационные счета стали инструментом приватизации, например в Чехии [Й. Котрба и др. : 37]. В России же в силу объективных и субъективных причин было решено осуществлять приватизацию ускоренным способом. Отсутствие соответствующей задачам банковской системы и неподготовленность финансовых институтов в целом, а главное, нестабильная внутриполитическая обстановка заставили российское правительство прибегнуть к иному, более быстрому способу приватизации. Для пресечения возможной «реставрации» и ускорения системных преобразований президент страны был наделен специальными полномочиями, снимающими необходимость длительных парламентских дебатов и обсуждений. Указам Президента была придана сила законов, и весь процесс приватизации пошел ускоренным темпом. Уже в конце 1991 г. было решено осуществлять приватизацию ваучерным способом.
По сути, ваучер, так же, как и приватизационные счета, является атрибутом финансового рынка, а соответствующих институтов тогда в России не было. Более того, если банковский сектор уже вовлекался в процесс реформирования, то о рынке ценных бумаг вообще говорить не приходилось. Так что при выборе ин- струментов пришлось действовать не с точки зрения институциональных возможностей, а с точки зрения политической ситуации.
Первый этап приватизации получил название ваучерного и длился до момента законодательно оформленного действия приватизационных чеков (1992– 1994). Именно этот этап «массовой» приватизации был временем возникновения домашних хозяйств как собственников ресурсов, и он заложил предпосылки будущих особенностей сектора домашних хозяйств в России.
Ваучер, по идее, должен был стать обращаемой ценной бумагой с номиналом 10 тыс. рублей – такой была определена доля каждого гражданина в общественном достоянии. Однако рыночная его стоимость в силу объективных причин была гораздо ниже. Недоверие населения и его низкие доходы были, пожалуй, главными из них. Бедность населения заставляла «сбывать» ваучеры по любой возможной цене. Ваучер не смог стать хоть сколько-то надежным финансовым активом для его первичных владельцев. Поэтому предложение ваучеров сформировалось очень быстро и оказалось избыточным.
Спрос же был обеспечен прежде всего теневым сектором экономики, бывшей партийной номенклатурой и высшей администрацией предприятий. Так образовался де факто рынок приватизационных чеков. Он носил уже вторичный характер, а раздача ваучеров была подобием первичного рынка. Бесплатность ваучеров при «первичном размещении», большое и быстро сформировавшееся предложение, а также низкий, полутеневой спрос – все это определило тот факт, что на вторичном рынке цена на ваучеры падала до символических значений и на всем протяжении времени, когда действовали приватизационные чеки, цена на них оставалась ниже номинальной. Все это неизбежно привело к тому, что основной капитал стал концентрироваться в руках отдельных членов общества, прежде всего у субъектов теневой экономики. Продавцы ваучеров доход от их продажи расходовали на текущее потребление и остались «ни с чем», а покупатели в конечном итоге обменяли их на пакеты акций. Так сформировались собственники ресурсов: собственники труда и собственники капитала.
Различные варианты акционирования предприятий, предусмотренные в законах, указах президента и государственных программах приватизации, содержали нормативы льгот, которые должны были обеспечить участие рядовых работников в разделе собственности, сделать их держателями акций. Однако состояние реального сектора экономики и неустойчивость социально-политической обстановки не позволили сделать и акции хоть сколько-то привлекательным долгосрочным активом. Появился рынок акций, и на нем также стал происходить массовый «сброс». Россия очень быстро превратилась из страны с дисперсной акционерной собственностью в страну с высококонцентрированной структурой акционерной собственности [Мониторинг уровня... 2000; От социального общества... 2005].
Среднегодовая динамика численности занятых в экономике по формам собственности характеризует динамику процесса преобразования форм собственности в России и косвенно свидетельствует об изменении структуры населения с точки зрения его разделения на собственников разных ресурсов.
Таблица 1
Среднегодовая численность занятых в экономике России по формам собственности, в млн. чел. и в % [рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2003 : 140]
|
Показа-тель/год |
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Всего в экономике |
75,3 100 % |
66,4 100 % |
66,0 100 % |
64,7 100 % |
63,7 100 % |
64,0 100 % |
64,3 100 % |
64,7 100 % |
|
На государственных, муни-ципаль-ных предприятиях |
62,2 82,6 % |
28,0 42,1 % |
27,7 42 % |
25,9 40 % |
24,3 38,1 % |
24,4 38,1 % |
24,4 37,9 % |
24,2 37,4 % |
|
В частных предприятиях |
9,4 12,5 % |
22,8 34,3 % |
23,5 35,6 % |
25,8 39,9 % |
27,6 43,3 % |
28,3 44,2 % |
29,7 46,2 % |
30,8 47,6 % |
|
На предприятиях со смешанной формой собственности |
3,0 4,0 % |
14,7 22,1 % |
13,8 21,3 % |
11,9 18,4 % |
10,5 16,5 % |
9,6 15 % |
8,0 12,4 % |
7,5 11,6 % |
Как видно из таблицы 1, уже в итоге первого этапа приватизации, то есть к 1995 г., появился заметный частнопредпринимательский сектор, в котором оказалось около 42 % всех занятых, а с учетом смешанных государственно-частных российских предприятий – 64 %. Но только к 1998 г. численность занятых в частном секторе превысила численность занятых на государственных и муниципальных предприятиях : 43,3 и 38,1 % соответственно.
К началу 2000 г., когда были преодолены самые резкие последствия финансового кризиса 1998 г., уровень дифференциации доходов характеризовался следующими показателями: на долю 20 % наименее обеспеченного слоя приходилось 6,2 % доходов, а на долю 20 % наиболее обеспеченных – 47,4 % [Уровень жизни...].
Таким образом, декларируемая социально-экономическая задача сделать процесс приватизации максимально демократичным, обеспечив как можно более равные возможности всех слоев населения при «дележе пирога», оказалась нереализованной. При этом занятые в таких отраслях, как здравоохранение, образование, наука, культура и т.д., оказались «за бортом» распределения.
Все это привело к тому, что уже на стадии становления домашних хозяйств как собственников факторов производства был заложен высокий уровень дифференциации доходов. Многие страны Центральной и Восточной Европы имеют гораздо меньшую дифференциацию доходов. В Словении соответствующие показатели составляют 12 и 31 % [Зарецкая 2002 : 81–92]; в Чехии – 10 и 37 %
[Котрба и др. 2002 : 36–47]; в Венгрии – 9 и 37 % [Майор и др. 2002 : 48–67; Кейнс 1949 : 68]. Это может быть объяснено как исходным состоянием экономики, так и более последовательным ходом и предварительной подготовленностью реформ. Венгерское правительство, например, последовательно либерализовало систему управления экономикой с конца 1960-х гг. В 1980-е гг. этот процесс ускорился. Результатом реформ стали большая гибкость государственного управления экономикой и менее жесткая экономическая структура, большая свобода производителей. К 1990 г., когда началась планомерная приватизация государственной собственности, в указанных странах уже были созданы и функционировали некоторые рыночные институты [Котрба 2002 : 36–38; Майор и др. 2002 : 49–50].
Ваучерный этап приватизации в России «расчистил площадку» для так называемого первоначального накопления капитала. Дальнейшее закрепление ресурсов за домашними хозяйствами еще более неравномерно разделило их на собственников капитала и натуральных ресурсов и собственников труда.
Таким образом, высокая степень дифференциации доходов является, в частности, следствием той приватизационной схемы, которая была реализована в России.
Каковы же особенности поведения домашних хозяйств в переходной экономике?
В рамках методологии экономикс мы исходим из того, что домашние хозяйства в своем потребительском поведении ежедневно и ежечасно осуществляют выбор. Расходовать доход на текущее потребление или отложить на будущее? В какой пропорции разделить доход на потребляемую и сберегаемую части? Подобные альтернативные варианты поведения человека в условиях рыночной экономики описаны и стали «классикой» экономической мысли, в частности кейнсианского направления. Обосновав свой «психологический закон», в соответствии с которым потребители увеличивают потребление при увеличении дохода, но не на всю величину прироста, а только на ее часть, Дж. М. Кейнс «узаконил» связь экономической теории с психологией, открыв дорогу исследованиям на стыке этих дисциплин [Кейнс 1949 : 109]. Надо отметить, что в экономической теории поведение, обусловленное социально-психологическими мотивами, изучалось давно. Известно, что структура потребления обусловлена не только величиной дохода, как это описывал в конце XIX века Э. Энгель, но и мотивами, обозначенными как эффект Веблена и эффект сноба.
Эффект Веблена – это стремление потреблять блага, характерные для потребления определенной группы людей, как правило, высокодоходных, элитных слоев, с целью обозначения принадлежности к данному классу. Российские потребители демонстрируют подобное поведение. Оно очень ярко проявляется в России в 1990-е годы, и память о таком поведении сохранилась в анекдотах про «новых русских», их малиновые пиджаки и дорогие галстуки. Эффект сноба – потребление с целью выделиться из толпы – также можно обнаружить в поведении российских домашних хозяйств. Такое поведение, например, позволило в условиях, казалось бы, не сулящей никаких перспектив нищеты «удерживаться на плаву» магазинам, продающим относительно дорогую одежду немассового производства. Психологи утверждают, что покупка вещи, стоимость которой «не поддерживается» текущим доходом, играет важную роль во внутреннем, для самого себя, позиционировании личности. Присущий далеко не всем, этот эффект тем не менее имеет место, и «отлавливать» его для приумножения доходов – задача бизнеса. Думается, что не случайно мы наблюдаем расцвет торговли через сети супермаркетов, где обслуживание поднимает человека в собственных глазах, где, по сравнению с условиями сделок на открытых рынках, он чувствует себя принадлежащим к более высокой социальной страте. Например, пенсионеры, совершающие основную массу покупок на самых дешевых рынках, время от времени посещают супермаркеты именно с целью психологического приобщения к среднедоходным согражданам.
Значительный спрос на телекоммуникационные и информационные услуги, на престижные высококачественные блага в определенной мере также можно рассматривать как зависящий от обозначенных социально-психологических мотивов.
Тем не менее описанное поведение – это фрагмент в повседневном круговороте обменов. Основная масса сделок совершается на рынках, где цены соответствуют уровню доходов. Основная масса домохозяйств, обладая информацией о ценах, приобретает блага, исходя из принципов эффективности, или, в лексике микроанализа, принципа максимизации полезности, ориентируясь на то, чтобы каждый рубль дохода приносил одинаковую полезность. Можно сказать, что несмотря на все недостатки современного российского рыночного механизма, с точки зрения потребительского поведения наша экономика стала вполне рыночной. Однако российский менталитет сказывается на повседневном поведении, что неоднократно отмечалось ведущими экономистами при оценке хода реформ [Ясин 2005 : 8]. Какие же особенности поведения сектора домашних хозяйств искажают модели госрегулирования и делают их недостаточно эффективными?
Исходной предпосылкой экономикс является идея ограниченности ресурсов. Именно ограниченность ресурсов заставляет субъектов экономики делать выбор вариантов их использования. Поэтому мы в первую очередь отмечаем в качестве особенности российского потребительского сектора низкую степень осознания факта ограниченности ресурсов.
Японцу, например, с раннего детства присуще не просто знание, ему присуще ощущение ограниченности ресурсов. В 1980-е гг., во времена обострения конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, любой слух о потопленном в Персидском заливе танкере порождал «волну лихорадочных измышлений о том, что вот-вот грянет третий нефтяной кризис, как бесснежная зима дает пищу зловещим прогнозам о неурожае риса». В результате этих настроений на протяжении 1980-х гг. Япония была «затоварена» и нефтью, и продовольствием. «Однако ни страх неизбежного дефицита, ни общее ощущение того, что сырье и ресурсы не беспредельны, не покидали людей», – писал в 1992 г. известный япон- ский экономист, футуролог и общественный деятель Тайичи Сакайя [Сакайя 1999 : 341].
В России идея ограниченности ресурсов не могла стать идеей, определяющей повседневность. Наши бескрайние просторы неосвоенных или плохо освоенных земель мешали ее восприятию. То обстоятельство, что за ресурсы надо платить и обеспечивать по возможности их воспроизводство, не воспринимается на «европейском» и тем более на «японском» уровне населением нашей страны ни в сфере производства, ни в сфере потребления. Перечислить причины этого явления не составит особого труда. Они кроются как в природно-климатических и географических условиях, так и в исторических особенностях нашего общества, то есть обусловлены большой территорией страны, «бесплатностью» природных ресурсов при социализме, централизованной системой распределения трудовых ресурсов, плановой системой ценообразования, монополией и монопсонией основных рынков и т. д.
Уровень восприятия идеи об ограниченности ресурсов задает социально-психологические параметры поведения, которые сегодня влияют на конъюнктуру рынков благ и рынков ресурсов. Отечественное производство благ удорожают не столько ресурсные издержки (за исключением нефти), сколько трансакционные – связанные со сменой собственников, с оформлением и обеспечением прав собственности. Один из ресурсов – труд – остается баснословно дешевым. Это объясняет низкие доходы собственников труда и высокие – собственников земли и капитала, а также бюрократического аппарата, обслуживающего процессы смены собственников и поддержку их прав. В складывающейся у нас модели хозяйствования будет оставаться ориентация на капиталосберегающее и трудо- и природозатратное производство, поскольку капитальные ресурсы воспринимаются психологически как более ограниченные. К тому же предпочитаются импортные техника и технологии, что, действительно, способствует более эффективному их использованию, ибо, будучи относительно дешевыми за рубежом, они поднимаются в цене в силу прибавления к стоимости дополнительных трансакционных издержек, связанных с преодолением национальных границ.
Поскольку собственники труда и только труда составляют большую часть населения России, а финансовые портфели, воплощающие сбережения населения, – это практика не нашей экономики, постольку низкий уровень потребления основной массы населения помимо прочих экономических факторов оказывается запрограммированным фактором социально-психологическим: восприятием рабочей силы как неограниченного ресурса.
В качестве второй особенности мы решаемся обозначить тот факт, что массовое потребление носит черты потребления «долго голодавшего» или потребления сверх дохода. Слоганы «я могу себе это позволить», «я этого достойна (достоин)» стали символом потребительского поведения. Точка насыщения в массовом сознании еще не достигнута. Нам далеко до американских стандартов потребления, информация о которых стала доступной, а само потребление – нет.
Это обстоятельство, вероятно, стало одной из причин бума сбережений под высокие проценты, когда люди в надежде на быстрое обогащение помещали свои деньги в сомнительные фонды и становились жертвами мошенничества. Здесь проявилось не только стремление быстро достигнуть более высокого уровня потребления, но и специфическое, этатистское восприятие рекламы: все, что обещается по радио, с телеэкранов, только поэтому воспринимается как гарантируемое государством.
В определенной степени бум потребления 2000-х гг. свидетельствует именно о такой психологии. Жизнь в кредит стала распространенным вариантом экономического поведения. Финансовая стабилизация и некоторое укрепление банковской системы, расширение сферы «демократичных» форм кредитования сразу сделали заметным источником расходов домохозяйств потребительский кредит. Эксперты отмечают, что граждане в пылу азарта начинают тратить больше, чем могут себе позволить. «В силу того, что в России потребительское кредитование эффективно стало развиваться относительно недавно, наши граждане сейчас ведут себя как дети: покупают все сразу и при этом не считают, сколько приходится выплачивать за кредит, – замечает директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. – Пока объемы кредитов небольшие, это проблема, но пока не трагедия. Как раз самое время научиться на негативном опыте, так как лимиты по тем же кредитным картам могут превышать ежемесячный доход» [Россияне «увязли» в долгах»... 2005 : 1,7].
Можно предположить, что в основе «потребления сверх дохода» лежит другая специфическая черта российского населения: непринятие факта имущественного неравенства. Если к этому феномену в развитых странах давно привыкли и в определенных рамках считают это нормальным явлением, то для граждан, живших в условиях уравнительного распределения, неравенство в доходах непривычно, оно воспринимается болезненно. В настоящее время в нашей стране, по данным статистики, 32 миллиона пенсионеров, 17 миллионов получающих пособие, 25 миллионов женщин и детей, живущих в неполных семьях, 5 миллионов студентов. Итого 79 млн. человек, то есть больше половины граждан страны. Их доходы настолько низки, что они не могут жить, не получая дотации [Ильичев 2005 : 7]. Недобрые чувства подавляющего большинства граждан к олигархам и прочим чересчур, по их мнению, преуспевающим соотечественникам давно уже стали общим местом в рассуждениях публицистов, социологов, политологов. В 2005 г. Россия, по оценке журнала «Форбс», стала второй страной в мире после США по числу долларовых миллиардеров. Их 27, тогда как в 2002 г. было лишь 7, а в 2004 г. – 25 [Могут ли миллиардеры... 2005 : 5].
Однако картина общественных представлений о роли богатства в жизни российского человека стала меняться. Как утверждают эксперты из института общественного проектирования (ИНОП), сегодня 62 % россиян относятся к крупным предпринимателям «хорошо» или «скорее хорошо», а 30 % – «плохо» и «скорее плохо» [Порох для реванша 2005 : 5]. По данным Фонда «Общественное мнение», это соотношение является не столь внушительным (47 против 30 %), что, впрочем, подтверждает тенденцию: быть богатым, и даже очень богатым, становится все менее стыдно. Надо отметить, что результаты исследования «Ле-вада-центра» свидетельствуют, скорее, об обратных тенденциях, о нарастании в обществе классовой ненависти: за 2 года с 38 до 49 % увеличилась доля россиян, видящих в деятельности крупных бизнесменов исключительно вред [Ильичев 2005 : 3]. Однако при этом обращает на себя внимание тот факт, что с 51 до 45 % уменьшилось за то же время число граждан, испытывающих чувство раздражения или даже ненависти при известии о том, что все больше отечественных предпринимателей входят в списки богатейших людей мира [Там же].
В условиях «потепления» отношения к бизнесу со стороны населения наблюдается стремление сокращать разрыв в уровне потребления за счет потребления сверх дохода.
С другой стороны, социально-психологические особенности поведения домашних хозяйств обусловлены и высокой имущественной поляризацией населения при очень малочисленной прослойке среднего класса. Обычно средний класс – это основная масса населения. Среднестатистические показатели уровня жизни в таких условиях соответствуют реальности, не являются абсолютной химерой.
Всероссийский центр уровня жизни (ВЦУЖ) насчитал в России более 13 млн. представителей среднего класса. За последние пять лет их число удвоилось. Однако, отмечают эксперты, по сравнению с ведущими экономиками доля «середнячков» в структуре населения ничтожно мала. В связи с этим необходимо заметить, что кейнсианская теория занятости, предполагающая, что наращивание расходов приведет к увеличению доходов на большую в несколько раз величину, теряет свой смысл. Ведь Кейнс полагал, что размах мультипликационного эффекта определяется коэффициентом, выведенным из среднестатистической, общенациональной функции потребления, предельной склонности к потреблению. Однако в условиях высокой поляризации населения и отсутствия достаточной прослойки среднего класса среднестатистические показатели потребления слишком далеки от действительности. Это обстоятельство не только не позволяет ожидать от эскалации расходов кейнсианских результатов, но и затрудняет воспроизводственный процесс.
Не меньшее препятствие для воспроизводственного процесса создает и такая вполне обозначившаяся черта поведения, как опасение потерять сбережения. Определенные алгоритмы поведения домашних хозяйств связаны с объективными характеристиками «среды обитания». В связи с этим в первую очередь следует отметить, что поведение домашних хозяйств как сберегателей дохода в переходной экономике связано с институциональной незрелостью финансового рынка. Банки ненадежны, развитость их сети, как и уровень обслуживания клиентов, оставляют желать лучшего, банковское законодательство несовершенно. Это в конечном итоге аккумулируется в таком показателе, как место крупнейших российских банков в мировом рейтинге.
Рынок ценных бумаг – другая составляющая финансового рынка – не развит в еще большей степени. Если к этому добавить характерную для переходного общества непредсказуемость неотдаленного будущего, то станет очевидным, что в таких условиях сбережения населения не могут превращаться в инвестиции посредством механизмов, учитывающихся западными моделями государствен- ного регулирования экономики. А ведь важнейшей особенностью, например, посткейнсианского подхода является акцентирование внимания на роли ожиданий и мнений в принимаемых решениях, особенно инвестиционных.
Справедливости ради надо отметить, что в целом представители посткейнсианской экономики чаще всего отвергают идею рациональных ожиданий как подход к моделированию индивидуальных ожиданий.
Вместе с тем существует множество взглядов относительно формирования ожиданий и предсказаний будущего, начиная с гипотезы об обобщенных адаптивных ожиданиях и кончая идеей о принципиальной непознаваемости будущего [19 : 219–247]. Это говорит все-таки о «совместимости» зарубежных теорий и российской практики, о применимости разработанных современной зарубежной наукой подходов для анализа реалий переходного периода. Тем самым мы не опровергаем, а, напротив, подчеркиваем необходимость учета особенностей в поведении потребительского сектора.
На наш взгляд, опасение потерять сбережения – одна из ярких характеристик поведения домашних хозяйств в условиях переходного периода. Этот аспект поведения, несомненно, присущ домашним хозяйствам и в условиях развитых экономик. Но там он проявляется в поведении на том же финансовом рынке: домохозяйства всего лишь диверсифицируют свои инвестиционные портфели. Развитый финансовый рынок предлагает большой выбор инструментов сбережения. В условиях же институциональной неразвитости опасение потерять сбережения создает особую обстановку на рынках благ длительного пользования, обусловливает высокий спрос на рынках недвижимости. Сегодня самым выгодным размещением сбережений является покупка квартиры. Не случайно мы наблюдаем преимущественный рост цен на однокомнатные квартиры. Это самый ликвидный актив на рынке жилья. Не случаен и рост объемов выпуска в строительстве: он стимулируется стремительным ростом цен. Другое дело, что высокая стоимость делает жилье недоступным для основной части населения, сбережения которой не дорастают до вложений в недвижимость, уменьшаясь или вовсе исчезая под воздействием инфляции.
Исходя из изложенного, становится очевидным, что стимулирование роста производства, а следовательно, и роста доходов в условиях переходного периода, когда недостаточно развиты финансовые институты, не сопровождается оживлением традиционных инвестиционных механизмов. В лучшем случае инвестиционные потоки принимают причудливые направления внутри страны и замораживаются в виде готовых или частично готовых к сдаче дорогих жилых комплексов. При этом большая доля населения живет в домах с высокой степенью износа и испытывает страх в ожидании нового повышения оплаты за коммунальные услуги. Так что процесс воспроизводства осуществляется здесь с заведомо «встроенной диспропорцией» в производстве и потреблении, закрепляя имущественное неравенство, локализируя социальные страты.
Таким образом, отмеченные особенности поведения российских домашних хозяйств – низкая степень осознания факта ограниченности ресурсов, непринятие факта имущественного неравенства и потребление сверх дохода, опасение поте- рять сбережения – являются предпосылками сбоев в воспроизводственном процессе, основанном на рыночных связях. Они порождены объективными причинами, однако, будучи таковыми, играют самостоятельную роль и оказывают влияние на механизм функционирования экономики. Частично эти особенности будут преодолеваться по мере накопления рыночного опыта функционирования домашних хозяйств, частично – останутся национальной особенностью российского потребительского менталитета. Но и роль государства в устранении диспропорций, порожденных описанной спецификой поведения населения, не следует преуменьшать.
Практика государственного регулирования должна быть нацелена как на формирование и развитие институтов рыночной экономики, так и на создание общества «равных возможностей», которые бы на деле препятствовали перерастанию имущественного неравенства в неравенство социальное. Население может относительно спокойно воспринимать неравенство в доходах, если это неравенство не закреплено социальными барьерами, существует реальная возможность выбора жизненной стратегии и качество жизни в значительной степени действительно зависит от усилий индивида. Правительства, объявляя заботу о повышении благосостояния своей главной целью, должны заботиться не только о росте ВВП, но и о создании традиции, в соответствии с которой окажется приемлемым лишь цивилизованный разрыв в уровне доходов.