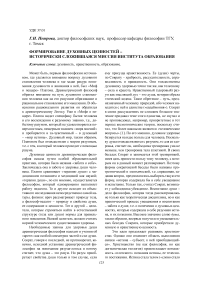Формирование духовных ценностей – исторически сложившаяся миссия института образования
Автор: Петрова Г.И.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Проблемы высшего профессионального образования
Статья в выпуске: 3 (30), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о понятии духовности на разных этапах исторического процесса. Западная педагогическая и философская мысль всегда проявляла интерес к этому вопросу. Авторы, упоминаемые в статье, говорили, главным образом, об образовании в университетах, которые и задавали всему образованию тон и характер и рассматривались в качестве основных образовательных институтов. Данный материал знакомит читателя с историческими этапами светского понимания духовности, его конкретно-историческим содержанием.
Духовность, нравственность, образование
Короткий адрес: https://sciup.org/142178862
IDR: 142178862
Текст научной статьи Формирование духовных ценностей – исторически сложившаяся миссия института образования
Может быть, первым философским источником, где уделяется внимание вопросу духовного становления человека и где задан ракурс понимания духовности и внимания к ней, был «Миф о пещере» Платона. Древнегреческий философ обратил внимание на путь духовного становления человека как на его разумное образование и рациональное становление его мышления. В объяснении рационального развития он обратился к древнегреческому Логосу. Уже в «Мифе о пещере» Платон видит специфику бытия человека в его восхождении к разумному знанию, т.е., добытому разумом, который не удовлетворяется поверхностным, пещерным знанием «мира мнений» и пробирается в за-чувственный - в духовный - «мир истины». Духовный мир, таким образом, Платоном был отождествлен с миром разумным, т.е. с тем, в который человек проходит с помощью разума.
Духовные ценности древнегреческая философия искала путем особой образовательной практики, которая была названа «забота о себе». Заключалась она в заботе о здоровье души человека. Платон сравнивает «терапию души» с медицинским познанием и медициной как наукой; «терапия души», по его мнению, осуществляется философом, который одновременно выполняет работу педагога. То и другое исходит из объективного исследования непосредственно самой натуры, физики: врач рассматривает природу тела, а философ-педагог - природу и свойства души, ее содержание и ценности. Тот и другой - целители, которые стремяться найти в естественной структуре (тела или души) нормы для правильного поведения. Всякий целитель должен считать нормой человеческого существования здоровье.
Необходимые законы для здоровья души древнегреческая философия находит в учении об «арете» как особой симметрии частей и сил души. Сократ, говоря о последней, не противоречит, конечно, исходной установке древнегреческой философии на понимание разума-логоса и потому считает, что душа - это разум. Но разум приобретает свойства души только в том случае, если ему присуща нравственность. Ее (души) черты, по Сократу - храбрость, рассудительность, справедливость и праведность. Они тождественны духовному здоровью точно так же, как телесному - сила и красота. Нравственный (здоровый) разум как мыслящий дух - это душа, которая обрела этический кодекс. Такое обретение - путь, предназначенный человеку природой, ибо человек находится с ней в единстве («евдаймония»). Сократ в своих рассуждениях не слишком большое значение придавал теме этого единства, не изучал и не проповедовал, например, приоритетные в тот период космогонические теории, поскольку считал, что более важными являются «человеческие вопросы» [1]. По его мнению, духовное здоровье базируется на идее пользы для человека. Поскольку душа отождествляется с разумом, то для ее здоровья, считает он, необходима тренировка ума не меньше, чем тренировка тела атлетикой. В своих беседах Сократ и занимается этой тренировкой, имея цель принести пользу тому человеку, с которым он в данный момент разговаривает. Поэтому формы сократовской беседы были названы про-трептической и эленхической, т.е. спрашивая, задавая вопрос, предполагалось выбирать такую его форму, которая содержала бы в себе увещевание и испытание. Только так, считал Сократ, возникает у собеседника убеждение. Воспитание души -дело философии, которая тогда рассматривалась не только как теоретическая дисциплина, но и как практический процесс увещевания и воспитания - забота о душе, т.е. о попечении о духовных ценностях, которые содержала в себе разумная истина, и их познании. Высокое значение слово душа, таким образом, впервые получило в увещевательных беседах Сократа, которые приобретали духовную и нравственную ценность.
Эти идеи продолжает развивать христианство. Однако оно изменяет область выполнения связки «истина - субъект, к ней приобщающийся». Христианство (не как философия, но как догматическая теология) провозглашает возможность «плотского» познания истины, ее телесного постижения. Истина стала телом («слово стало плотью»), Христос есть тело истины, и истина тела утверждается в догмате воскресения. Познаваемая телесно в таинстве Евхаристии истина - это причастие ей и непосредственная к ней причастность.
Заострим внимание на следующем обстоятельстве: христианская церковь установила (и это очень важно) практику полноты истины, которая достигалась не только разумом-духом (и в этом христианство противоречило античности), но открывалась в результате духовного прозрения и телесного приобщения к ней одновременно. Идея полноты истины пришла в христианство как следствие мысли о том, что усилиями человека, редуцированными лишь до интеллекта и разума, невозможно преодолеть разрыв между бесконечной истиной и конечным человеком. Как же она достигается? Христианство дает ответ на этот вопрос: противоречие снимает сама истина, она нисходит к человеку, когда он к ней причащается всей полнотой своего существа. Указанием на полноту христианство снимает редукцию в понимании духовности - отождествление ее с разумностью.
Смысл христианской онтологии - в соотнесении разумной истины и телесности, когда они не противопоставляются и когда ни одна из этих частей не редуцируется (что было характерно для античной философии), но, напротив, они находятся в единстве. Познание в христианстве выносится за пределы сферы только ментального, и поэтому истина теперь соотносится не с безличным разумом, но с духовной личностью. Ценности души - духовные ценности - становятся присущими не только разуму, но личностной полноте.
Духовные установки Средних веков во многом инициировали создание именно в это время первых университетов, где главный факультет - теологии - имел назначение приобщения (не путем интеллектуальных усилий, но с помощью веры) к истине, которая содержала в себе духовные - данные Богом - ценности. Только в Новое время основным факультетом стал философский, который внес свое, светски рациональное, толкование духовности.
Эпоха Ренессанса и Новое время возвращают философию и педагогику к пониманию духовности в редуцированном до интеллекта виде - к знанию, добытому разумом. Вследствие такой установки этот период истории обозначен исследовательским вниманием философов и педагогов к институту образования, которое было увидено как та социальная инстанция, которая формирует ценности, добытые разумом. Основная ценность - это рационально открывающаяся истина.
Так, Т. Гоббс понимает образование в ракурсе его функции формирования индивида. Образование передает ему, прежде всего, социальные ценности, которые по своему характеру являются всеобщими. Приобщение к всеобщим ценностям инициирует социальное равенство и общественную однородность. Человек в процессе образования получает возможность и способность стать частью этой однородности только потому, что главной всеобщей ценностью является истина. Она добывается посредством разума, который дает право абсолютной власти в государстве. Первостепенная роль института образования состоит в том, что здесь человек обучается рациональному открытию истины, которая является абсолютной и всеобщей, а потому, значит, государственной. Государство же проявляет «заботу не только об отдельных индивидах, но и принимает общие меры, состоящие в просвещении народа посредством учения и примера» [2]. Просвещение, таким образом, как гимн разуму уподоблялось духовности.
Для западной традиции духовных ценностей характерен акцент на ценностях главным образом юридического (законодательного) и политического характера, т.е. на таких, которые конструировались разумом человека. «Государство не может оставить людей в неведении, основы прав надо старательно и правильно разъяснять» [3]. Образование тоже перенимает рациональный настрой. Оно является тем институтом, где даются несомненные готовые, вечные и абсолютные истины. В силу внимания образования к формированию духовных ценностей государство поддерживало этот институт, выделяя особенно университетское образование. Поддерживало, но и жестко контролировало. «Просвещение людей всецело зависит от правильной постановки обучения юношества в университетах» [4]. Истина наделялась такими ценностными характеристиками, как логичность, законность, абсолютность. Духовных характеристик, добываемых разумом, не могло и быть. Государство перенимало эти истины и строило на них свои социальные принципы и законы. Истин не могло быть много, поэтому образование давало только то, что было несомненно, что не подлежало дискуссии и на что не существовало множества различных точек зрения. «Противоречивые взгляды, господствующие среди воспитанников университета, доказывают, что они недостаточно обучены» [5]. Духовность не предполагала никаких дискуссий, диалогов, споров и различных по- зиций - это было основным принципом университетского образования.
Отождествление духовных ценностей с ценностями просветительского разума заставляет Дж. Локка также много внимания уделить институту образования. По его мнению, образованность означала высокую ценность истинного знания. Ибо только рациональная истина способствовала правильному воспитанию. Человек - это «чистый лист бумаги, воск, из которого можно вылепить все что угодно» [6].
Истинное знание как духовную ценность рассматривал и Ж.-Ж. Руссо, которого волновал вопрос очищения нравов. Он полагал, что это можно сделать только с помощью наук. Знания дают истину, а именно ей принадлежит власть. И если политическая власть хочет быть добродетельной, она должна основываться на знаниях. «Но до тех пор пока с одной стороны будет только власть, а с другой - только знание и мудрость, ученые будут редко думать о великих вещах, государи будут совершать хорошие поступки еще реже, а народы будут все так же порочны, испорчены и несчастны», - считал философ [7].
По мнению Ж.-Ж. Руссо, изначально человек добр, однако социальные отношения, в которые он попадает, влияние частной собственности разлагают его, и природное равенство устраняется. Восстановить изначально добрую природу человека может истинное знание. Только на основе природной доброты может возникнуть равенство людей. Так, Ж.-Ж. Руссо истине придает политическое значение и, надеясь на нее, не принимает тезиса Т. Гоббса о «войне всех против всех».
Общественный договор как средство восстановления равенства, говорит Ж.-Ж. Руссо, должен основываться на истине взаимоотношения людей и содержать эту истину. Выполняя это правило, человек принимает общественный договор и тем самым теряет себя и свою свободу. В обществе человек не может быть свободным, свобода - это прерогатива его естественного, природного состояния. Духовные качества - право, справедливость, нравственность - это и есть социальная свобода человека.
Можно также констатировать, что поскольку именно институт образования формирует разум как духовную ценность, то ему (образованию) и следует уделять внимание. Эта функция вменяется ему, поскольку оно формирует индивида как субъекта, возводит его ко всеобщему общественному состоянию. Г.В.Ф. Гегель считал, что только «человек всеобщий», т.е. владеющий нравственностью как разумной ценностью и, сле довательно, теряющий индивидное, отдельное существование, теряет и животность. Институт образования, изгоняя в человеке животность, превращает его в человека социального, «всеобщего», устраняет эгоистичность каждого. Поэтому данному институту государство должно вменить главную функцию - становление духовности через формирование разума, который выполняет эту задачу потому, что способствует открытию и познанию истинного знания.
Почтение к роли истины и знания как ценностей характеризует всю социокультурную жизнь Х1Х в. Духовность отдавалась во власть разума. Так, категорический императив И. Канта, предназначенный каждому отдельному человеку, тем не менее полагает, что нравственность как духовность являет себя во всеобщности и необходимости. Поэтому И. Кант высоко чтит власть «чистого разума». Мораль и этика - прерогатива частного индивида, их следует противопоставить публичной сфере, т.е. юриспруденции и праву, которые устраняют эгоистичность отдельного человека и всех объединяют в общество, где интересы становятся всеобщими и, значит, истинными в своей морально-нравственной направленности. Образование рассматривает в качестве своей основы, конечно, «чистый разум», который обладает властью разума, а потому и политической властью. Таким образом, согласно учению И. Канта, государство должно создаваться на базе духовности, т.е. нравственности.
Такова была эпоха: в просвещении и просветительской деятельности, которую осуществляло образование, виделся путь воспитания духовных ценностей. Основной духовной составляющей считалась нравственность, которую, в свою очередь, давало истинное знание. Она рассматривалась как субстанция, «обладающая самосознанием» [8]. Только духовность как нравственность может уберечь человека от эгоистичности отдельных интересов, ибо ее содержанием является всеобщее право. Власть государства, считалось, основывается на нравственности [9].
Конечно, с высот современности можно находить изъяны в классической позиции относительно духовных ценностей. Они видны в редукции понятия духа до разума. Уже и в свое время эта позиция подвергалась критике. Так, по мнению А. Шопенгауэра, человек, редуцированный только до ценности разума, - это «голова ангела без тела». Также прозреваемая нашей философией истина, открывающаяся субъекту, образованному в иных ценностных ориентаци- ях, указывала на необходимость подвергнуть критике модель образования и формирования духовной жизни, которая предлагалась классической западной философией. Нельзя не заметить, что рациональная редукция человека привела к созданию западноевропейской культуры с ее спецификой высокого интеллектуализма и логической красоты.
Исторический экскурс относительно вопроса о ценностном самоопределении педагога и вывод, который следует из этого экскурса о редукции духовности до разума, были необходимы, чтобы сказать, что современность не являет в этом плане существенной новизны. И сегодня авторы, исследующие в том или ином отношении постиндустриальный тип социальности, рассматривают, возможно, в качестве главного вопрос о знании (информации), которому традиционно в западноевропейской культуре прид авало сь значение духовной ценности.
-
1. Меморабилии Ксенофонта / пер. И.Е. Тимошенко. Киев – СПб., 1983.
-
2. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения в 2-х т. М., 1991. Т. 2. С. 260.
-
3. Там же. С. 261.
-
4. Там же. С. 267.
-
5. Там же. С. 268.
-
6. Локк Дж. О воспитании // Сочинения в 3-х т. М., 1988. Т. 3. С. 608.
-
7. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение по вопросу: способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов? // Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998. С. 49.
-
8. Гегель Г.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3. С. 350.
-
9. Там же. С. 122, 205–207.
Список литературы Формирование духовных ценностей – исторически сложившаяся миссия института образования
- Меморабилии Ксенофонта/пер. И.Е. Тимошенко. Киев -СПб., 1983.
- Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского//Сочинения в 2-х т. М., 1991. Т. 2. С. 260.
- Гоббс Т.//Там же. С. 261.
- Гоббс Т.//Там же. С. 267.
- Гоббс Т.//Там же. С. 268.
- Локк Дж. О воспитании//Сочинения в 3-х т. М., 1988. Т. 3. С. 608.
- Руссо Ж.-Ж. Рассуждение по вопросу: способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?//Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998. С. 49.
- Гегель Г.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3. С. 350.
- Гегель Г.Ф.//Там же. С. 122, 205-207.