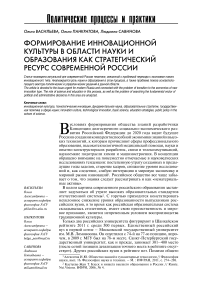Формирование инновационной культуры в области науки и образования как стратегический ресурс современной России
Автор: Васильева Ольга Александровна, Панкратова Ольга Александровна, Савинова Людмила Геннадьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 7, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной для современной России тематике, связанной с проблемой перехода к экономике нового инновационного типа. Анализируется роль науки и образования в этом процессе, а также проблема поиска основополагающего вектора политических и управленческих решений в данной области.
Инновационная культура, технологические инновации, фундаментальная наука, образовательные стратегии
Короткий адрес: https://sciup.org/170167015
IDR: 170167015
Текст научной статьи Формирование инновационной культуры в области науки и образования как стратегический ресурс современной России
В условиях формирования общества знаний разработчики Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года видят будущее России в создании конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий, к которым причисляют сферы профессионального образования, высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли химии и машиностроения. В концепции обращено внимание на повсеместно отмечаемые в науковедческих исследованиях тенденции: постепенную утрату созданных в предыдущие годы заделов, старение кадров, снижение уровня исследований и, как следствие, слабую интеграцию в мировую экономику и мировой рынок инноваций1. Российское общество все чаще забывает о том, что знания следует рассматривать и как «нематериальные активы».
В целом картина современного российского образования заставляет задуматься об утрате высоких образовательных стандартов отечественной системы2. С горечью приходится констатировать неуклонное снижение уровня образованности выпускников российских вузов, в то время как российская образовательная система складывалась столетиями, имеет свою преемственность и мировое признание, является непременным условием воспроизводства традиционной культуры.
Только два российских университета фигурируют в Шанхайском рейтинге 2011 г. среди 500 первых. Единственный российский вуз в первой сотне – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Он опустился с 74-й на 77-ю позицию, впрочем, в 2009 г. МГУ был на 78-м месте. Санкт-Петербургский государственный университет, как и прежде, занимает 301–400 место (после сотой позиции детализация точного места в рейтинге отсут ствует). Дру гих российских вузов в рейтинге нет. Помимо общего
-
1 Алексеева И.Ю. Общество знаний и гуманитарные технологии // Философия науки, вып. 16. Философия науки и техники. – М. : ИФ РАН, 2011, с. 274–288.
-
2 Кастуева-Жан Т. Блеск и нищета высшего образования в России // Russie. Nei.Visions. ИФРИ, 2006, № 4.
рейтинга, китайские специалисты уже традиционно подсчитывают сводные рейтинги по 5 группам дисциплин и по 5 приоритетным дисциплинам. Во всех этих рейтингах также лидируют вузы США вместе с Кембриджем и отчасти Оксфордом. Из российских вузов в этих рейтингах представлен лишь МГУ, и то лишь за счет математики1. Российских учебных заведений в числе 200 лучших, по версии Times Higher Education (так называемый рейтинг Таймс), нет.
Нынешнее число иностранных студентов в России можно считать каплей в море. В общем объеме доля студентов, обучающихся по международным соглашениям, сегодня составляет всего 1,4%. Доля России на рынке экспорта образовательных услуг минимальна. Оба показателя (место в международных рейтингах и число иностранных студентов) свидетельствуют о том, что российская система высшего образования находится на обочине международного рынка образовательных услуг.
Процесс вступления России в Болонский процесс, начавшийся в 2003 г., наталкивается на определенные трудности, устоявшиеся традиции, инертность менталитета и рефлекс защиты национальной идентичности. В то же время он представляет интерес как попытка конвергенции норм и правил между Россией и Европой в отдельно взятой сфере. Однако уже имеющиеся результаты позволяют утверждать, что переход на двухуровневую систему образования снижает качество подготовки специалистов в России. Традиционный для российской системы специалитет не соответствует логике Болонского процесса, но он глубоко укоренен в менталитете, в частности, работодателей, для которых, как показывают данные опросов (опрос агентства «РейтОР»), бакалавр – все еще неполный специалист.
По мнению ряда авторитетных российских ученых, «привитие» принципов Болонской конвенции прерывает отечественную культурную традицию в системе нашего образования и постепенно приводит к тому, что высшее образование в России фактически превращается в сферу предоставления услуг. Государству невыгодно формировать высокообразованного индивида с опорой на полноценную мировоззренческую основу, невыгодно «научить учиться», в то время как социальные и экономические реалии заставляют человека менять сферы своей деятельности не один раз и столько же раз «обращаться» за образовательными услугами2.
Необходимо остерегаться тенденций, когда системные знания заменяются набором разрозненных сведений. Для сложных фундаментальных наук и близких к ним специальностей, требующих высокого уровня подготовки студента по фундаментальным дисциплинам, выделение степени бакалавра утрачивает вообще всякий смысл – такой выпускник бакалавриата сможет стать специалистом в своем деле, только сразу же освоив программу специалиста или магистра3.
Исследование, изобретение, новаторство являются творческими процессами по самой своей природе, а повсеместно внедряемый способ тестирования как определение уровня знаний, на котором базируется Болонская система обучения, в большинстве случаев не в состоянии показать уровень творческой активности студента. Это лишь набор формальных ответов, пусть и более удобных для про-верки4.
«Прагматический поворот» во взаимоотношениях науки и общества – одна из существенных тенденций, характеризующих современный этап научнотехнологического развития. Именно это заставляет задуматься о статусе и перспективах развития фундаментальной науки в современной России. В стране, где не проводятся фундаментальные исследования, не может быть качественного образования, а высокий уровень подготовки молодых специалистов характерен именно для тех вузов, где большинство преподавателей активно участвуют в исследованиях. Конкурентоспособность и наукоемкость выпускаемой продукции во многом определяются уровнем исследований, в т.ч. фундаментальных.
К сожалению, в современной России как среди чиновников государства, так и среди сотрудников ведущих научных учреждений находится немало сторонников отношения к фундаментальной науке как к «непозволительной роскоши». Холистская позиция, которая во многом стала определяющей в современном научном сообществе, затушевывает особую роль фундаментальных наук в современных технологиях, провоцирует заявления о «прикладнизации» фундаментальной науки, о подмене значения истины как идеала научного знания эффективностью и прагматической пользой, о коммерциализации науки1.
Подобная позиция представляется недопустимой, поскольку ситуация в нашей стране, в отличие от стран, традиционно относимых к «развивающимся», характеризуется фактом наличия фундаментальной науки, унаследованной от СССР. В отечественных фундаментальных исследованиях заняты десятки тысяч ученых из различных организаций и регионов, что уже само по себе является бесценным достоянием для страны, желающей занимать достойное место в современном мире. Многие результаты фундаментальных разработок находятся на мировом уровне и способствуют решению практических задач.
Однако сегодня объективные данные говорят о серьезной угрозе для российской науки. Ближайшие семь-десять лет будут решающими для ее существования: либо произойдет непоправимое разрушение научных школ, либо заметное усиление внимания и поддержки государства и общества приведет к увеличению потенциала фундаментальной российской науки.
Процесс формирования инновационновосприимчивой среды является достаточно сложным. Более 70 лет назад К. Циолковский в статье «Двигатели прогресса» специально рассматривал проблему использования новшеств. Причину их замедленного, недостаточного исполь- зования он видел в неправильном отношении к открытиям и изобретениям, которое кроется в человеческих слабостях. Он называл факторы, стоящие на пути реализации новшеств: инертность, косность, консерватизм; недоверие к неизвестным именам, себялюбие, узкий эгоизм, непонимание общечеловеческого и собственного блага; противодействие непривычному со стороны работников, нежелание переучиваться, корпоративные интересы, профессиональную зависть.
Современные исследования по данной проблеме также показывают, что причины недостаточно быстрых темпов инновационности во всех сферах деятельности лежат в иной плоскости, нежели финансовая. Известный менеджер, президент Фраунгоферского общества ФРГ, профессор Х.-Ю. Варнеке считает, что практически все конечные цели, такие как увеличение сегмента рынка и улучшение качества продукции, лучше всего достигаются посредством стратегий, воздействующих на социальную систему. Техника и технология играют в этом процессе значительно меньшую роль. Разобщенность культуры и искусства, с одной стороны, и естествознания и техники – с другой, утверждает он, грозит обернуться катастрофой2.
Инновационная культура обладает могучим антибюрократическим и созидательным зарядом. Всесторонний анализ научного потенциала современного российского общества, осознание актуальных потребностей государства приводят к необходимости решения проблемы формирования инновационной культуры как стратегического ресурса нового века, которое возможно осуществить только совместными усилиями специалистов самых разных областей – гуманитарных, технических, естественнонаучных.
Исследование выполнено в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. ГК № 14.B37.21.0516.