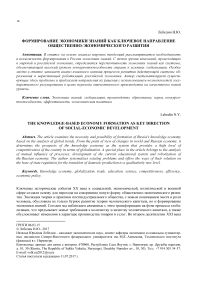Формирование экономики знаний как ключевое направление общественно-экономического развития
Автор: Лебедин Наталья Юрьевна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Теория и философия хозяйства
Статья в выпуске: 5 (107), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа мировых тенденций рассматривается необходимость и возможность формирования в России экономики знаний. С точки зрения изменений, происходящих в мировой и российской экономике, определяется перспективность экономики знаний как системы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности страны в условиях глобализации. Особое место в статье занимает анализ взаимного влияния процессов развития действующей системы образования и нарастающей роботизации российской экономики. Автор систематизирует существующие здесь проблемы и предлагает направления их решения с использованием возможностей государственного регулирования в целях перехода отечественного производства на качественно новый уровень.
Экономика знаний, глобализация, производство, образование, наука, конкурентоспособность, эффективность, экономическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14875922
IDR: 14875922
Текст научной статьи Формирование экономики знаний как ключевое направление общественно-экономического развития
Ключевые исторические события ХХ века в социальной, экономической, политической и военной сфере создали основу для перехода на совершенно новую форму общественно-экономического развития. Эволюция теории и практики постиндустриального общества, с новым пониманием места и роли человека, обусловила не только бурное развитие теории человеческого капитала, но и формирование экономики знаний. Сегодня мы наблюдаем связанные с этим трансформации на фоне процесса глобализации, что предъявляет новые требования к количеству и качеству человеческого капитала, а также обусловливает изменения в характере производства товаров и услуг. Во втором десятилетии ХХI века
ГРНТИ 06.03.15
Наталья Юрьевна Лебедин – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и социально-гуманитарных дисциплин Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Технического института (филиала) в г. Нерюнгри.
Статья поступила в редакцию 11.07.2017 г.
человек становится подлинно главенствующей силой современной экономики. Именно человек является не только самым важным потребителем, но и важнейшим производителем материальных благ и услуг. При этом появление высокоэффективных инновационных технических средств не только не исключает человека из процесса производства, но и наоборот – усиливает роль человеческого капитала, повышая значимость интеллектуального труда.
Стремительное распространение Интернет-экономики создает для этого новые импульсы, демонстрируя, что в конкурентной борьбе на глобальном рынке выигрывают страны, обладающие наиболее развитой экономикой знаний. На базе возможностей этой новой экономики создаются новые средства производства (например, 3D-принтеры), активное внедрение которых ускоряет все процессы в производственной сфере. Усиление требований к интеллектуальному уровню рабочей силы, а также к интеллектуализации рабочего места, влечет за собой изменения в системе подготовки и развития рабочей силы, а также изменения в рамках всей системы производство-распределение-обмен-потребление. Новые технологии расширяют и возможности современных предприятий. Так, в ближайшем будущем те же 3D-принтеры можно будет использовать не только на территории предприятий, но и непосредственно в месте потребления создаваемой с их помощью продукции, например, на строительной площадке, при «печатании» строительных конструкций.
Еще один пример – строительство «умных домов». Здесь интересен не только процесс их возведения и оснащения, но и совершенствование потребления тех сервисов, которыми они обладают. Отмечаемое сегодня увеличение спроса на «умный дом» свидетельствует о наличии двух тенденций: повышение уровня человеческого капитала и рост материальных возможностей потребителей. Считаем, что одно без другого обеспечить невозможно. Даже те работники, профессии которых, казалось бы, не предполагают использования новых технологий, должны быть готовы стать их активными пользователями, чтобы обеспечить качественное производство того или иного товара или услуги. Например, водитель такси сегодня – это пользователь современного гаджета, а не просто управляющий автомобилем. Само понятие такси трансформируется, обозначая не только средство доставки пассажира из пункта «А» в пункт «Б», но и дополнительный сервис, удовлетворяющий его потребности в информации и коммуникации, например, за счет использования Wi-Fi в салоне автомобиля. Помимо этого, жители крупных городов сегодня имеют возможность самостоятельного перемещения из пункта «А» в пункт «Б» (при наличии смартфона) благодаря службе каршеринга.
Под влиянием новых технологий и роста числа людей, готовых к их практическому применению, создается целая индустрия самостоятельного использования сервисов, что, в конечном счете, стирает границы между производителем и потребителем, между обслуживающим персоналом и клиентом. Это становится фактором воздействия на человека и предполагает решение, как минимум, двух взаимосвязанных задач: формирование работника, не только соответствующего новым требованиям, но и способного эти требования создавать; перераспределение работников между отраслями производства благодаря возможностям Интернет-технологий и роботизации.
Статистика технологически развитых стран демонстрирует тенденцию роста эффективности труда при снижении количества занятых. Так, например, в США за последние полтора десятилетия численность рабочей силы в производственном секторе снизилась более чем на 40% (при кратном увеличении количества используемого высокотехнологичного оборудования). Это позволило значительно повысить производительность и интенсивность труда и добиться качественного улучшения выпускаемой продукции, при заметном снижении объемов отходов производства. В сфере обслуживания снижение численности работников было более умеренным и составило 15%, при значительном увеличении масштабов самой сферы. Это сопровождалось созданием новых рабочих мест в масштабе, значительно превышающем указанное снижение. Доля базовых отраслей национального хозяйства (добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, строительство) в валовой добавленной стоимости снизилась до 45% к настоящему времени с 70% в 70-е годы ХХ века.
В основе этого – резкое увеличение масштабов наукоемкого производства и сверхдинамичное развитие таких сфер, как банковская, страховая, логистическая, инжиниринговая деятельность, программирование, создание Интернета вещей и др. Эти изменения оказали значительное влияние и на основных потребителей фактора труд. Если еще 10–15 лет назад это были сферы, присущие постиндустриальному обществу (финансы, страхование, правоведение, телекоммуникации, а также развлечения и туризм), то в настоящее время на первый план выходят наука, образование и создание новых технологий, т.е. сферы, соответствующие экономике знаний. Важнейшими профессиями сейчас становятся ученый, технолог, преподаватель, и их доля имеет тенденцию к постоянному росту [6, c. 7].
Какой вывод из этого следует? Он заключается в том, что стратегическая конкурентоспособность государства в современной глобальной экономике может обеспечиваться, прежде всего, благодаря постоянному процессу генерирования новых знаний, новых способов производства, а также создания высокотехнологичных товаров и услуг, что и предполагает активное движение к экономике знаний. Что же касается природных богатств (газа, нефти, угля, металлов и прочих полезных ископаемых), которые относятся к фактору производства – земля, то они по-прежнему будут играть важную роль для человечества, однако, со временем ее значимость будет снижаться. Вместе с тем, без экономики знаний не удастся обеспечить контроль над сохранением и рациональным потреблением ресурсов, а также защиту окружающей среды.
Государства, обладающие природными ресурсами, далеко не всегда способны получать абсолютную выгоду от их наличия. Лидерами в новых условиях смогут стать только те страны, в которых сформировалась и развивается экономика знаний. Круг этих лидеров сегодня обозначен, однако, в него может войти практически любая страна, если будет целенаправленно работать в данном направлении. Примером успеха в этой области могут служить такие страны, как Китай и Индия, а также ряд развивающихся стран, пусть не столь крупных, но делающих заметные успехи на пути к экономике знаний. Сегодня можно говорить о формирующейся тенденции смены такого признанного мирового лидера, как США [7, c. 27] (справедливости ради следует отметить, что это относится не ко всей экономике, а к ее отдельным сегментам).
Интересным будет здесь опыт Китая, где наблюдается переход основной доли в ВВП от промышленности к сектору услуг (если его доля в ВВП страны в 2014 г. составляла 48,1%, то в 2015 г. она увеличилась уже до 50,5%). Эти изменения происходят во многом благодаря увеличению объема финансирования в области инфраструктурных проектов, как со стороны государства, так и силами бизнеса [3]. В целом это дает положительные результаты, которые сопровождаются структурными изменениями в национальной экономике, способствующими формированию экономики знаний.
Что касается России, то потенциально она обладает рядом преимуществ, относящихся к человеческому капиталу, которые могли бы обеспечить ее место в списке мировых лидеров. Вкупе с имеющимися природными богатствами и огромной территорией это позволило бы нашей стране решать глобальные экономические задачи, исходя из собственных национальных интересов. Наша страна обладает развитым интеллектуальным потенциалом, а отечественная фундаментальная наука, основы которой были заложены еще в советский период, способна конкурировать в мире по многим направлениям, затрагивающим не только военную область и атомную энергетику. Аналогично выглядит и ситуация с российским образованием, хотя те изменения, которые происходят в последнее десятилетие в этой сфере, не позволяют говорить о ее динамичном развитии [8, c. 256].
При этом наблюдаются успехи отдельных высших учебных заведений, что позволяет им занимать заметные позиции в мировых рейтингах ведущих университетов. Так, в опубликованном в июне 2017 г. Шанхайском предметном рейтинге университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) присутствуют 12 российских вузов: Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. При составлении данного рейтинга университеты оценивались по 52 параметрам, ключевыми из которых являлись продуктивность научной деятельности, индекс цитирования, количество материалов в ведущих журналах и награды международного уровня. В финальную часть рейтинга вошли 1409 университетов. Наилучшие позиции среди российских вузов – у МГУ, который занял 43-ю строчку по физике – это самый высокий результат из отечественных учебных заведений, представленных в этом рейтинге [1].
Тем не менее, считать российскую систему образования соответствующей требованиям экономики знаний пока еще рано. Для того, чтобы сформулировать направления по ее развитию, необходимо ответить на следующие вопросы:
-
1) адекватно ли количество и качество учебных заведений (особенно высших) задачам, которые стоят перед экономикой знаний;
-
2) насколько система оценки результативности российского образования соответствует интересам рынка в условиях экономики знаний, а выпускники высших и средних учебных заведений – требованиям рынка труда;
-
3) достаточно ли развита инфраструктура рынка образовательных услуг и система финансирования (государственная и негосударственная).
Очевидно, что ответы на эти вопросы будут неутешительными, поскольку демонстрируют, что действующая система образования неадекватна требованиям экономики знаний и во многих случаях не способствует развитию человеческого капитала, даже при наличии не всегда востребованного потенциала. Указанные проблемы можно рассматривать не только как наличие критических областей в отечественной системе образования, но и как направления, по которым следует ее развивать, с учетом имеющихся положительных тенденций. В частности, речь может идти о развитии прорывных технологий, в том числе – в области робототехники.
Следует подчеркнуть, что роботизация экономики относится к процессам, в наибольшей степени соответствующим экономике знаний. Но если в области подготовки специалистов данной сферы сегодня есть определенные положительные результаты, то в их практическом использовании наша страна еще значительно отстает от мировых лидеров. Так, по имеющимся данным, плотность роботизации в нашей стране примерно в 70 раз ниже, чем в среднем по миру. Если в 2015 г. в мировой экономике на 10 000 работников приходилось чуть меньше 70 промышленных роботов (запрограммированных манипуляторов), то в российской экономике – всего 1. Если же сравнивать российский уровень с уровнем стран-лидеров, то ситуация выглядит удручающе. Скажем, аналогичный показатель в Японии составляет 305 роботов, в Сингапуре – 398, а в Южной Корее он достигает 531. Интересны и данные, характеризующие приобретения таких роботов. В нашей стране эти показатели колеблются на уровне 500-600 продаж в год, что соответствует 0,25% мировых продаж. Несложные подсчеты показывают, что в России используется в общей сложности чуть более 8 тыс. таких роботов, в то время как мире их насчитывается более 1,6 млн штук. Мировым лидером по приобретению роботов является Китай, за ним следуют Южная Корея, Япония и США, а замыкает пятерку лидеров Германия. Так, Китай в 2015 году приобрел и оснастил свои предприятия 69 тыс. роботов, а на Германию пришлось чуть более 20 тыс. единиц [5].
Низкие показатели использования промышленных роботов нельзя связывать только с проблемами в системе образования. Причины этого более глубоки, и их характер обусловливает нашу позицию в вопросе формирования экономики знаний. Причины отставания в указанной сфере можно представить следующим образом:
-
• разрыв между системой образования (о чем шла речь выше) и квалификацией менеджмента (в том числе в технической сфере) ведет к дефициту знаний о возможностях современной робототехники;
-
• отсутствие в нашей стране собственного производства роботов (при наличии предприятий-разработчиков) не позволяет обеспечить потребности отечественной промышленности, в том числе – из-за продолжающегося действия экономических санкций;
-
• низкий уровень доходов населения создает препятствия для устойчивого роста спроса на высокотехнологичную инновационную продукцию;
-
• существующий уровень оплаты труда не создает стимулов для использования роботов, поскольку нередко менеджментом предприятий принимаются решения о создании дополнительных рабочих мест, не требующих высокого уровня образования и квалификации;
-
• недостаточный уровень подготовки работников не позволяет им эффективно обслуживать робототехнику, что ведет к дополнительным издержкам на техническое обслуживание и ремонтные работы в случае возникновения неисправностей (в том числе – связанных с человеческим фактором);
-
• значимая часть предприятий – потенциальных потребителей роботов – находится в руках государства (особенно – в оборонном комплексе и атомной отрасли), что затрудняет заключение контрактов на приобретение роботов, в том числе – в связи с экономическими санкциями против нашей страны.
Этот перечень направлений нельзя считать исчерпывающим. По мнению автора, они могут рассматриваться как основные, поскольку демонстрируют назревшую необходимость системного решения существующих проблем на пути формирования экономики знаний. Это требует модернизации многих важнейших институтов, особенно – институтов развития. Заметные изменения должны про- изойти и в системе государственного регулирования, что позволит обеспечить эффективную обратную связь и на этой основе повысить эффективность взаимодействия всех участников процесса. Результатом должны стать позитивные изменения в системе отечественного предпринимательства, а также инвестиционной и инновационной деятельности, при переходе к экономике знаний.
Сегодня такая работа уже проводится, и подтверждением этому может служить принятая в нашей стране государственная программа «Информационное общество» [4], а также разработанная и представленная Правительству РФ на рассмотрение «Концепция развития цифровой экономики России» [2]. Завершая рассмотрение вопросов, связанных с формированием экономики знаний, следует подчеркнуть важность этой деятельности и ее соответствие стратегии социально-экономического развития, адекватно отражающей те изменения, которые сегодня происходят в России и в мире. Ее реализация, помимо прочего, будет способствовать обеспечению высокого уровня экономический и в целом национальной безопасности, что является важнейшим условием современного развития.
Список литературы Формирование экономики знаний как ключевое направление общественно-экономического развития
- В Шанхайский рейтинг университетов ARWU вошли 12 российских вузов . Режим доступа: https://lenta.ru/news/2017/06/28/rating (дата обращения 01.07.2017).
- Концепция развития цифровой экономики России . Режим доступа: http://dpfund.ru (дата обращения 5.07.2017).
- Невельский П.А. Китайская перестройка//Ведомости. 2016, 21 января. С. 4.
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 313 (ред. от 31.03.2017 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)"». . Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184 (дата обращения 23.05.2017).
- Промышленная робототехника в России и мире. М.: Национальная ассоциация участников рынка робототехники, 2016.
- Славин Б.Б. Взаимосвязь этапов развития информационных технологий и экономики//Информационное общество. 2015. № 6. С. 4-13.
- Харламова Т.Л. Проблемы инновационного развития российской экономики в условиях «новой нормальности»//Проблемы современной экономики. 2016. № 3 (59). С. 27-30.
- Харламова Т.Л. Эффективный менеджмент в современной системе образования как необходимое условие ее модернизации//Журнал правовых и экономических исследований. 2014. № 4. С. 255-260.