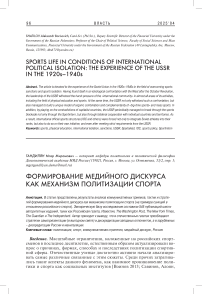Формирование медийного дискурса как механизм политизации спорта
Автор: Гандилян М.М.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты анализа коммуникативных приемов, тактик и стратегий формирования медийного дискурса как механизма политизации спорта (на примере санкций в отношении российского спорта). Эмпирическую базу исследования составили 545 публикаций шести авторитетных изданий, таких как Российская газета, Известия, The Washington Post, The New York Times, The Guardian и The Independent. Автор приходит к выводу, что в отечественных газетах преобладают стратегии самопрезентации (в выгодном свете) и дискредитации западных оппонентов, а в зарубежных – дискредитации России и манипуляции.
Политизация, спорт, коммуникативная стратегия, медийный дискурс, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170211059
IDR: 170211059
Текст научной статьи Формирование медийного дискурса как механизм политизации спорта
Введение. Масштабные ограничения, наложенные на российских спортсменов в последнее десятилетие, естественным образом актуализировали вопрос о причинах, формах, способах и последствиях политизации спортивной сферы. Отечественные ученые достаточно активно начали анализировать самые различные связанные с этим сюжеты. Среди прочих затрагивались такие аспекты данного феномена, как взаимное проникновение политики и спорта как социальных институтов [Воинов 2013; Савинов, Алоян,
Шумасов 2021], политизация национально-государственной идентичности в спорте [Дебелова, Фартеев 2020; Кузина, Руденко 2023], двойные стандарты в мировом спорте [Бастраков 2020], возможности спортивной дипломатии по противодействию политизации данной сферы [Бродская 2018; Романов 2025], коммуникационные особенности политизации [Гарсия-Каселес 2020; Казанцева, Амосова 2022] и др.
Вместе с тем одним из наименее востребованных среди российских исследователей сюжетов до сих пор является вопрос о конкретных механизмах, используемых для искусственного перемещения изначально неполитических отношений в сферу политики. При этом именно данный момент, на наш взгляд, является во многом ключевым для понимания природы и значения политизации спорта в целом: не имея представления об особенностях рычагов и инструментов, применяемых субъектами политизации для решения собственных задач, трудно составить целостное представление о том, как вообще осуществляется политизация спорта.
Получается, что имеет место определенное противоречие: важность понимания внутренней «механики» политизации спорта абсолютно не коррелирует с тем объемом внимания, который этому уделяется. На наш взгляд, объясняется это тем, что выявить конкретные приемы и способы политизации спорта не так просто, как может показаться на первый взгляд. В отличие, например, от причин или эффектов политизации, подавляющая часть внутренних механизмов ее осуществления носит неявный, латентный, зачастую даже намеренно скрываемый их «операторами» характер. А значит, для их выявления, как правило, требуются дополнительные нетривиальные усилия, ориентированные на поиск активно используемых, но при этом тщательно завуалированных техник и способов политизации спорта.
В этой связи целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, было выявление особенностей одного из наиболее типичных механизмов политизации спорта, предполагающего формирование требуемого субъектам этого процесса медийного дискурса.
Считаем важным пояснить, что под политизацией спорта в данном случае мы подразумеваем процесс и тенденцию использования социального потенциала спорта в политических целях, а механизмами политизации спорта в рамках настоящего исследования будем считать конкретные приемы и инструменты, применяемые для обеспечения возможности использования социального потенциала спорта в политических целях. По своему характеру, содержанию, направленности, востребованности и эффективности механизмы политизации спорта могут быть различными.
Эмпирическая база исследования. Одним из наиболее часто используемых механизмов политизации, по нашим наблюдениям, является целенаправленное формирование общественно-политического и медийного дискурсов, что, в свою очередь, создает впоследствии необходимые основания для принятия конкретных управленческих решений по переводу некогда неполитических практик и отношений в разряд политических.
Как на практике используется этот механизм? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нами было проведено исследование особенностей освещения спортивной проблематики в ведущих зарубежных и российских информационных изданиях. При этом, естественно, нас интересовали не новости спорта как таковые, а лишь те материалы, в которых затрагивались различные аспекты сопряжения политики и спорта.
В качестве источников публикаций были выбраны две американские, две британские и две российские газеты – The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Independent, «Российская газета» и «Известия». Все эти издания относятся к числу наиболее авторитетных и влиятельных в своих странах.
Выбор именно этих шести источников был продиктован следующими причинами.
Во-первых, все издания относятся к категории качественной прессы, что сводит к минимуму вероятность опубликования в них явно не соответствующей действительности информации (отдельные интерпретации, оценки и комментарии, конечно же, могут носить манипулятивный характер, однако откровенная ложь в этих авторитетных медиа, как правило, не встречается).
Во-вторых, несмотря на то что речь идет о газетах, у каждой из них есть собственные сайты и аккаунты в разнообразных социальных сетях и мессенджерах, в которых тиражируются материалы, размещенные в печатной версии. Таким образом, в значительной степени нивелируется потенциальное возражение, что печатная пресса более не востребована у аудитории и не оказывает на нее ощутимое воздействие, уступив в этом смысле первенство электронным ресурсам. И число подписчиков самих газет, и число просмотров онлайн-версий публикуемых статей, и – что самое важное – высокие позиции в рейтингах цитируемости, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о сохранении влияния указанных медиа на массовое сознание.
Более того, – и это уже в-третьих, – выбранные для анализа американские и британские издания влияют на мнение читателей не только внутри своих стран, но и за их пределами, поскольку на опубликованные в них материалы нередко ссылаются журналисты и политики, в т.ч. других государств. В этом смысле они в какой-то мере формируют медийную и отчасти общественную повестку дня в мире в целом. Российские же издания являются одними из самых авторитетных в нашей стране: их статьи зачастую предопределяют то, о чем говорят и пишут лидеры общественного мнения, блогеры, ведущие теле-грам-каналов.
Кроме этого, считаем важным пояснить также причины, по которым нами отдельно не анализировались посты в социальных сетях и мессенджерах. Прежде всего, это было связано с тем, что число подобных ресурсов и объем представленной на них информации настолько велики, что для качественного их анализа неминуемо потребовалось бы использование специализированного программного обеспечения, доступ к которому в подавляющем случае стоит достаточно дорого. Плюс ко всему, использование части из этих ресурсов на территории нашей страны законодательно запрещено. К тому же, как уже отмечалось выше, информационные повестки так называемых новых медиа в определенной мере формируются под влиянием традиционных СМИ или же, как минимум, во многом с ними пересекаются.
Так или иначе, полагаем, что анализ шести упомянутых выше источников позволяет составить комплексное представление о том, каким образом происходит формирование требуемого субъектам политизации спорта медийного дискурса. Причем не только медийного, но и отчасти публичного дискурса тоже, потому что оценки, мнения и позиции, высказываемые в публичном поле, по нашим наблюдениям, в значительной степени основываются на том контенте, который распространяется в медиа.
Каким образом для анализа отбирались материалы каждого из шести изданий? На их официальных сайтах , , , , и создавались поисковые запросы со словами sport/sports (спорт), politics (политика), political (политический) на англоязычных ресурсах и «спорт…», «политик…», «политическ…»1 – на порталах Российской газеты и Известий. Временной интервал поиска был ограничен периодом с 1 января 2014 г. по 31 марта 2025 г. Упорядочение полученных результатов осуществлялось по релевантности. Так как на каждом из сайтов число найденных материалов существенно превышало 5 тыс. ед., для анализа отбирались лишь первые 100, – согласно выбранному типу сортировки, наиболее близко соответствовавшие интересующей нас проблематике.
В данном случае мы исходили из того, что наличие в тексте указанных выше слов (и их производных) будет являться достаточно надежным индикатором соответствия публикации интересующей нас проблематике. Впоследствии, после того как каждая из 600 статей была прочитана, это предположение в целом подтвердилось: непосредственное отношение к различным аспектам политизации спорта имели 545 газетных материалов. По нашему мнению, для выявления типичных механизмов политизации спорта посредством формирования медийного дискурса сформированной таким образом совокупности текстов было вполне достаточно.
Отобранные тексты анализировались нами на предмет представленных в них коммуникативных стратегий и тактик речевого воздействия на аудиторию.
Теоретическая основа исследования. Нужно заметить, что в политической лингвистике до сих пор нет единого определения коммуникативной/речевой стратегии. Так, например, О.С. Иссерс определяет ее как «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс 2003: 54]; Е.В. Денисюк – как «структурированную последовательность речевых действий, точнее – способ структурирования речевого поведения в соответствии с коммуникативной целью участника общения» [Денисюк 2004: 16], а О.Н. Паршина – как «сверхзадачу речи, диктуемую практическими целями говорящего… определенную направленность речевого поведения в данной ситуации в интересах достижения цели коммуникации» [Паршина 2007: 10-11]. Применяя эти подходы к предмету нашего исследования, коммуникативную стратегию формирования медийного дискурса в контексте политизации спорта считаем возможным определить как общую линию коммуникативного поведения, направленную на достижение стоящей перед субъектом цели политизации спорта. Под тактикой же, вслед за В.А. Мишлановым и Н.С. Нецветаевой, предлагаем понимать «способ реализации выбранной стратегии посредством некоторых частных приемов (речевых ходов)» [Мишланов, Нецветаева 2009: 7].
Как и в случае с определениями, в отношении разновидностей коммуникативных стратегий и тактик в научной литературе тоже нет единства. Среди довольно значительного разнообразия предлагаемых отечественными учеными вариантов их разграничения наиболее адекватными проблематике настоящего исследования нам представляются два подхода. Автором первого из них является О.Л. Михалева, выделившая три основные коммуникативные стратегии («на понижение», «на повышение» и театральность) и целый ряд реализующих их тактик (обвинение, безличное обвинение, обличение, оскорбление, анализ-«плюс», анализ-«минус», презентация, неявная само-презентация, отвод критики, самооправдание, побуждение, кооперация, размежевание, информирование, обещание, прогнозирование, провокация, иронизирование, предупреждение) [Михалева 2002].
Второй подход подробно представлен в статье уже упоминавшихся В.А. Мишланова и Н.С. Нецветаевой. По их мнению, в конфликтогенном политическом дискурсе (а именно таким, на наш взгляд, в большинстве случаев является дискурс, связанный с политизацией спорта) чаще всего встречаются стратегии дискредитации, манипуляции и (само)презентации. Первая из них реализуется при помощи тактик обвинения, иллюстрирования отрицательного, непрямых оскорблений, навешивания ярлыков, иронии, сарказма и умаляющих сравнений. Стратегия манипуляции предполагает использование тактик запугивания (гиперболизация), подтасовки фактов, подмены понятий, аллюзий, намеков, апелляции к чувствам. Наконец, стратегия (само)презентации чаще всего сопрягается с тактиками отождествления с кем- или чем-либо, солидаризации, дистанцирования и иллюстрации достижений [Мишланов, Нецветаева 2009: 9-11].
Результаты. Анализ отобранных публикаций о политизации спорта убеждает нас в том, что в американских и британских изданиях преобладают коммуникативные стратегии самопрезентации и театрализации в случаях, когда речь идет о событиях и процессах внутри США или Великобритании, и стратегии «на понижение», дискредитации и манипуляции, когда статьи посвящаются российским спортсменам. В российских же газетах политика и спорт в основном затрагиваются в контексте санкций и ограничений, которые налагаются на наших спортсменов, и потому чаще используются стратегии самопрезента-ции (в выгодном свете) и дискредитации (западных оппонентов).
Сразу же оговоримся, что определение преобладающей в тексте стратегии – это во многом субъективный процесс. Российским ученым, видимо, еще только предстоит разработать алгоритмы ее объективной идентификации. Вместе с тем в большинстве случаев знакомство с содержанием газетных публикаций все же позволяет более или менее определенно сказать, какую цель преследовал ее автор. При этом нужно отметить, что применительно к зарубежным изданиям, особенно когда речь идет о России (а именно эти кейсы, на наш взгляд, заслуживают особого внимания), достаточно часто встречаются случаи сочетания стратегий дискредитации и манипуляции, т.е., иными словами, когда автор стремится представить российский спорт с невыгодной стороны, для этого используются отдельные упомянутые выше манипулятивные тактики и приемы.
Проиллюстрируем это на конкретных примерах.
Одной из самых распространенных тактик реализации стратегии дискредитации в американских и британских СМИ является обвинение. Обвинение российских спортсменов (всех, а не только тех, кто действительно был замешан в чем-то противоправном) в нарушении допинговых правил и Кремля – в создании системы, поощряющей подобные махинации («Россия была признана виновной в спонсируемой государством допинговой схеме, в рамках которой российские должностные лица фальсифицировали данные, предоставленные Российским антидопинговым агентством»1). Сопоставимой с ней по частоте использования является тактика иллюстрирования различных негативных моментов, связанных с российским спортом («Россия продолжает сталкиваться с усилением санкций и противодействием со стороны спортивного мира»1; «Ряд организаций отстранили российских спортсменов и их команды от участия в соревнованиях и перенесли запланированные мероприятия из России»2). Надо отдать должное журналистам анализировавшихся изданий – до прямых оскорблений они доходили крайне редко, однако тактика навешивания ярлыков («Россия стала изгоем на международной хоккейной арене после вторжения на Украину»3), умаляющих достоинство сравнений, иронии и сарказма применялась ими весьма регулярно («Рекомендация об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международном спорте была “защитной мерой”, а не санкцией»4).
Стратегия манипуляции чаще всего реализовывалась иностранными журналистами за счет использования тактик преувеличения («Футбол в России и прежде деградировал, теперь же статус изгоя означает катастрофу для ее клубов и национальной сборной»5, «Наказание за применение допинга меняет официальное название страны, но мало что меняет в ее олимпийском опыте»6), укрепляющих авторскую мысль намеков («Поздравляем медалистов Олимпийского комитета России. Сохраняйте медицинские предписания»7) и апелляции к чувствам читателей («Россия благополучно вернулась в футбол, и, похоже, никого это не смущает»8). Кроме того, считаем манипулятивным приемом также доведение до читателей лишь одной точки зрения на описываемые события, без какого бы то ни было упоминания альтернативной позиции. Очень часто приводились мнения только украинских чиновников или спортсменов, а взгляды их российских визави при этом не удостаивались никакого внимания («Украинская ассоциация футбола (УАФ) считает, что возвращение России на международный уровень “проигнорирует страдания тысяч украинцев”, и призывает сохранить отстранение до окончания вой- ны»1; «Капитан сборной Украины по футболу А. Ярмоленко призвал “полностью изолировать” Россию от участия во всех международных соревнованиях: Это страна террористов, которая убивает украинцев»2).
Разумеется, говоря о российско-украинском конфликте как причине отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнованиях, западные журналисты использовали слова и словосочетания, которые принято применять в таких случаях на Западе: « Russia’s full-scale invasion of Ukraine » (полномасштабное вторжение России на Украину»), occupation (оккупация), « occupied Ukrainian regions » (оккупированные украинские территории), military aggression (вооруженная агрессия) и т.д. Ни о каких военных преступлениях Украины, оккупации ее войсками приграничных районов Курской области, разумеется, речь в этих материалах не шла.
Российские же СМИ в основном придерживались стратегии самопрезента-ции, предпочитая фокусироваться на позитивных спортивных событиях, происходящих в нашей стране (или за ее пределами, но с участием отечественных спортсменов) и имеющих политическую подоплеку3. Иногда, впрочем, бралась на вооружение и стратегия дискредитации, направленная на демонстрацию ошибочности политики Запада в отношении российских спортсменов и применяемой им практики «двойных стандартов»4.
Заключение. Убеждены, что использование подобных коммуникативных приемов, тактик и стратегий является одним из основных способов формирования требуемого субъектам политизации спорта медийного дискурса. Приведенные выше примеры – лишь малая доля того, что в ежедневном режиме транслируется журналистами с целью генерирования необходимого им (а чаще – их учредителям, заказчикам, спонсорам, рекламодателям) отношения аудитории к событиям в мире спорта. И именно данное обстоятельство дает нам основания считать это достаточно действенным механизмом политизации спорта.
Сформированный подобным образом дискурс зачастую становится основой для принятия ангажированных политико-управленческих решений в спортивной сфере. После того, как в массовое сознание внедрили конкретные нарративы, создали нужные субъектам политизации образы и навя- зали выгодные им причинно-следственные связи, становится значительно проще добиться того, чтобы изначально алогичная, противоестественная, а в отдельных случаях – и не совсем законная идея была воспринята общественностью как совершенно нормальная, абсолютно адекватная реальности или даже давно назревшая инициатива.