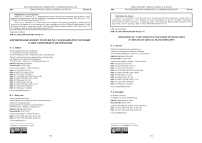Формирование новой стратегии расследования преступлений в эпоху цифровой трансформации
Автор: Зайцев О.А., Пастухов П.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 4 (46), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья содержит теоретические предложения по оптимизации и рационализации предварительного расследования как основной стадии досудебного производства в уголовном процессе Российской Федерации на основе происходящих изменений в период цифровой трансформации общества. В условиях датацентричной экономической деятельности, накопления больших данных предлагается изменить информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение расследования преступлений, перейти от документов к данным с одновременным упрощением процессуальной формы уголовного судопроизводства, устанавливающей письменный характер производства по делу. Предмет исследования составили информационно-технологические инновации, которые могут быть и должны быть внедрены в досудебное производство. Продемонстрированы противоречия между современными технологичными способами фиксации доказательственной информации и устаревшими письменными способами, установленными в Уголовно-процессуальном кодексе. Показано значение электронного взаимодействия органов расследования с субъектами информационно-технологических систем по получению от них доказательственной информации о докриминальной, криминальной и посткриминальной информации о лице, совершившем преступление. Проанализированы правовые, технологические и организационные аспекты внедрения электронного документооборота в досудебное производство. Цель: в условиях информационного общества, тотальной цифровой трансформации сформировать представление об оптимальной модели предварительного расследования на основе информационно-технологического обеспечения, провести деформализацию собирания и фиксации доказательств, внедрить электронный документооборот. Методы: совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод; общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы (сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: предпринят анализ информационно-технологического потенциала цифровых платформ для совершенствования процесса предварительного расследования, оптимизации практики доказывания по уголовным делам с использованием современной информационной инфраструктуры общества в рамках новой стратегии расследования преступлений. Продемонстрирован новый подход к взаимодействию органов предварительного расследования с субъектами информационно-технологических систем по получению цифровых данных об обстоятельствах совершенного преступления. Сформулирован вывод о том, что внедрение электронного документооборота позволяет объективно зафиксировать доказательственную информацию, обеспечить материальную и процессуальную экономию при производстве по делу. Выводы: необходимо формирование новой стратегии расследования в связи с тем, что предварительное расследование нуждается в модернизации на основе информационно-технологического развития общества, происходящей цифровой трансформации всех сфер социально-экономической жизни.
Предварительное расследование, информационно-технологическое, доказательства, доказывание, результаты оперативно-розыскной деятельности (орд), электронный документооборот, информационно-аналитическое обеспечение
Короткий адрес: https://sciup.org/147227602
IDR: 147227602 | УДК: 343.132:004.9 | DOI: 10.17072/1995-4190-2019-46-752-777
Текст научной статьи Формирование новой стратегии расследования преступлений в эпоху цифровой трансформации
The era of digital transformation sets a challenge for law enforcement bodies to search for new information- and technology-based ways of law enforcement and to develop new aspects of legal relations in the new context. Under the influence of continuous transformations, there shall be found a balance between legal and reasonable coercion of a person and ensuring guarantees of rights for participants in criminal proceedings at the phase of preliminary investigation [16, pp. 231-236].
Preliminary investigation is traditionally understood as the phase where authorized state bodies and officials, in strict accordance with the criminal procedure law, act to collect, verify and estimate evidence on the basis of which the guilt (or innocence) of a person(s) in the commission of a crime is established, as well as other circumstances related to the criminal case.
It is preliminary investigation, with its multiple tasks aimed at establishing all the circumstances of the crime, with its written recording of all the evidence collected in course of investigative actions, that forms the investigation model of the Russian criminal procedure. The content of the current investigation model is determined by its written nature: contemporary pre-trial proceedings are based on the paper document flow where the investigator plays a leading part. The investigator issues procedural documents that contain evidence on the fact to be proved, he is responsible for preparing a completed criminal case file - from ac cepting the statement on the crime to drawing up an indictment. The criminal case file appears to be like a completely ‘finished book’ from beginning to end, with conclusions on the guilt of the accused person, although preliminary ones. The content of this ‘book’ is description of evidence that reveals the mechanism of crime presented in reports on investigative actions. Therefore, the main task of pre-trial investigation is to collect (make up) such a system of evidences, meeting the criteria of sufficiency and reliability, which together would justify the presence or absence of crime in the act. This is the phase of search-based proofing. Based on the evidence collected, at the judicial phases there takes place conviction-based proofing.
Scientific papers discuss the diversified, multidisciplinary, multifaceted, multilevel nature of the contemporary crime investigation arrangement [14, p.8]. Given these circumstances, we suggest ten main directions for modification and modernization of the existing provisions that would constitute a new crime investigation strategy. Strategy here is understood as an art of achieving the goal, the main direction of activity. The concept of strategy in the National Standard of the Russian Federation for Quality Management System is defined as a ‘plan for achieving a long-term or common goal’1.
Наиболее развернутое определение общей характеристики стратегии дал Д. С. Хижняк, которую он рассматривает в качестве разновидности целенаправленного системного моделируемого подхода, направленного на перспективное планирование субъектно-объектных отношений, особого инструмента организации деятельности и управления явлениями определенной сферы общественной жизни, «доминирующего курса», выбранного варианта деятельности, направленного на изменение или модификацию объекта этой сферы [26, с. 32].
Юридическую стратегию этот автор представляет как систему приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной политики, зафиксированную в качестве плана, реализация которого связана с долгосрочной перспективой получения определенного результата, основанную на предыдущем и настоящем состоянии проблемы, учитывающую современные риски и угрозы, предусматривающую способы решения этой проблемы и осуществление контроля за ее поэтапной реализацией, базирующуюся на положениях различных нормативно-правовых актов государства и (или) международно-правовых документах и включающую субъектно-объектные константы и временные рамки [26, с. 33].
Особое значение стратегический аспект имеет для криминалистической науки, призванной обеспечивать научное обоснование методологии расследования преступлений в условиях технологической революции. Понятие стратегии в криминалистических исследованиях влияет на формирование методов расследования преступлений. Так, методы познания фактов и обстоятельств преступления включают в себя стратегические и тактические методы. Например, И. М. Лузгин определяет криминалистическую стратегию как сложное явление, включающее в себя формирование целеполагания и распределение целей в соответствии с определенным этапом осуществления стратегии, умение руководить процессом расследования уголовного дела, определение этапов, распределение приоритетов при проверке версий [12, с. 20-21].
В отличие от широкого (управленческого) понимания стратегии и узкодисциплинарного подхода мы попытаемся провести исследование избранных вопросов модернизации предвари тельного расследования посредством системного, комплексного подхода выработки средств, методов, целей стратегии предварительного расследования.
Новый подход к научной организации труда органов предварительного расследования
Масштабные изменения, происходящие сегодня в производственной сфере, совокупно оцениваются как «новая промышленная революция», «четвертая промышленная революция», или, в более узком смысле, как «технологическая революция [27, с. 46]. При этом «сквозными» технологическими процессами для всех видов производств становятся автоматизация, роботизация и интеллектуализация [34, р. 42]. Основным драйвером технологической революции практически во всех отраслях экономики и социальной сферы выступает перевод проектирования технологических систем, контроля их состояния и управления ими из аналоговой в цифровую форму, а также формирование цифровых платформ, интегрирующих данные, а также разработка программных приложений для обработки этих данных [31 ].
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года заявлено, что важным инструментом объединения усилий бизнеса, науки и государства по реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики являются технологические платформы1. Технологическая платформа представляет собой коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по совершенствованию всех видов деятельности, привлечение дополнительных ресурсов, а также на совершенствование нормативной правовой базы в области научно-технологического и инновационного развития.
Цифровые платформы меняют организацию рынков товаров и услуг. При этом платформы понимаются и существуют в трех аспектах [15, с. 29]:
-
- платформа как технологическая конструкция (программная интеграция данных и приложений для их обработки);
The most detailed definition of strategy was given by D. S. Khizhnyak. He understands strategy as a variety of the focused systematic simulated approach aimed at long-term planning of agentobject relationships (AOR), a special tool for organizing the activity and control over the events in a certain area of social life, a ‘dominant policy’, a chosen activity aimed at altering or modifying the object in this area [26, p.32].
This author presents the legal strategy as a system of priorities, goals, principles, main directions, tasks and mechanisms for implementing public policy, fixed as a plan whose implementation is associated with obtaining a specific result in the long run, based on the previous and present state of the problem, taking into account modern risks and threats, providing ways to solve this problem and exercise control over its phase-by-phase implementation, based on the provisions of various regulative legal acts of the state and (or) international legal documents, and including agent -to-object constants and time frame [26, p.33].
The strategic aspect is of particular importance for forensic science meant to provide scientific justification for the crime investigation methodology in the context of technological revolution. The concept of strategy in forensic research influences the development of crime investigation methods. For example, the methods of discovering facts and circumstances of a crime include strategic and tactical methods. I. M. Luzgin defines forensic strategy as a complex phenomenon which includes goal-setting and distribution of goals in accordance with a certain phase of the strategy implementation, skill to manage the criminal investigation process, determination of phases, priority distribution in case verification [12, pp. 20-21].
In contrast to the wide (managerial) understanding of strategy and the narrow scientific approach, we will attempt to study the selected issues of preliminary investigation and its modernization through a systematic integrated approach to developing means, methods and goals of the preliminary investigation strategy.
A New Approach to Science-Based Labor Management for Preliminary Investigation Bodies
The sweeping changes taking place today in the production area are collectively evaluated as the ‘new industrial revolution’, ‘the fourth industrial revolution’, or, in a narrower understanding, as ‘technological revolution’ [27, p. 46]. In this context, automation, robotics and smart technology application are becoming ‘cross-cutting’ processes for all types of industries [34, p. 42]. The key driver of the technological revolution in almost all sectors of the economy and social sphere is transition of process system engineering, system status monitoring and system management from analog to digital form, as well as the development of digital platforms for data integration, and development of software for processing this data [31].
The Strategy for Innovative Development of the Russian Federation for the period until 2020 states that technological (process) platforms are an important tool for combining the efforts of business, science and the state to achieve the toppriority goals of modernization and technological development of the Russian economy. *. A technological platform is a communication tool aimed at intensifying efforts to improve all types of activities, attracting additional resources, as well as improving laws and regulations in the field of scientific, technological and innovative development.
Digital platforms are making changes to the organizational structure of commodity and service markets. These platforms are understood and exist in three dimensions [15, p.29]:
-
- platform as a technological structure (software integration of data and applications for its processing);
-
1 Decree of the Government of the Russian Federation No. 2227-r ‘On Approval of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation up to 2020’ of December 8, 2011. Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2012. No. 1. Art. 216.
-
- платформа как бизнес-модель, корпоративная организация — экосистема из разработчиков и поставщиков отдельных модулей и приложений вокруг компании-платформера;
-
- платформа как открытая, общедоступная инфраструктура (площадка, маркетплейс) для взаимодействий между производителями и потребителями.
При формировании и развитии технологических платформ определены задачи, часть которых могут составить конструктив в правоохранительную деятельность уже сейчас, а некоторые в перспективе. Мы выделим наиболее перспективные направления решения задач, которые рано или поздно будут включены в информационно-технологическое обеспечение деятельности по раскрытию и расследованию преступлений как научной организации труда органов предварительного расследования. Эта группа задач, возложенных на развитие и функционирование технологических платформ, нацелена на: выявление новых научно-технологических возможностей модернизации; определение принципиальных направлений совершенствования отраслевого регулирования для быстрого распространения перспективных технологий; развитие центров превосходства и центров компетенций в научно-технологической сфере; повышение потенциала для реализации сложных научно-технологических проектов, требующих участия различных организаций и междисциплинарного взаимодействия.
Федеральные органы исполнительной власти и институты развития приветствуют институциональную, организационную и консультационную поддержку формирования и развития технологических платформ. О важности создания технологических платформ отмечается в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы1. Такое развитие становится необходимым с формированием экосистемы цифровой экономики, где реализуется партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных сис- тем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан.
Более того, в четвертом разделе Стратегии сформулирован приоритетный сценарий развития информационного общества в России и отмечается, что уже сформированы национальные технологические платформы онлайн-образования, онлайн-медицины, единая инфраструктура электронного правительства, Национальная электронная библиотека (п.50).
Итак, приоритетным и перспективным направлением развития информационного общества является переход на технологические платформы для коммуникации между всеми заинтересованными лицами. Органы исполнительной власти могут выступать в роли координаторов и регуляторов, но при этом сами подчиняются режиму онлайн-взаимодействия с остальными участниками в рамках горизонтальной одноранговой сети.
«Государство-платформа» предполагает постепенное переключение на цифровой формат, где общение пользователя платформы и государства происходит через интерфейсы программных приложений от многочисленных частных разработчиков на принципах свободного API «государства-платформы». Данные (Big Data) будут собираться офлайн (и немедленно оцифровываться) и онлайн, анализироваться для пользователя решения. Цифровая идентификация пользователей и технологии блокчейн будут гарантировать как защиту, так и прозрачность работы системы.
Начало практическому воплощению, разработке правовой основы и регуляторной среды цифровой трансформации правоохранительных органов по внедрению технологических платформ можно увидеть на примере прокуратуры Российской Федерации. Главным направлением цифровой трансформации прокуратуры в Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры провозглашается высокотехнологичный надзор на основе комплексной оптимизации выполнения надзорных функций единой безопасной цифровой платформы для обеспечения электронного взаимодействия органов прокуратуры всех уровней между собой и с другими государственными органами, внедрение современных механизмов и технологий противодействия киберпреступности и правонарушениям в цифровой среде.
-
- platform as a business model, corporate structure - an ecosystem of developers and suppliers of individual modules and applications around the platform owner;
-
- platform as an open public infrastructure (marketplace etc.) for interactions between producers and consumers.
Development of process platforms has set certain tasks; some of them could be introduced into law enforcement now, others - in the future. We will highlight the most promising areas in handling the tasks which would sooner or later be included in the information technology support of crime detection and investigation activities as a sciencebased labor management for preliminary investigation bodies. This group of tasks imposed on the development and functioning of process platforms is associated with identifying new science and technology opportunities for modernization; determining principal areas of improving industryspecific regulation for rapid expansion of advanced technologies; developing centers of excellence and centers of competence in the science and technology field; increasing capabilities for the implementation of complex science and technology projects that require participation of various organizations and interdisciplinary interaction.
Federal executive bodies and development institutions provide institutional, management and consulting support to build-up and develop process platforms. The importance of creating those is discussed in the Strategy of the Information Society Development in the Russian Federation for 2017-20301. Such development becomes necessary when there is developed the ecosystem of digital economy which creates the environment for partnership of organizations. This partnership ensures constant interaction of the process platforms belonging to the organizations, applied Internet services, analytical systems, information systems of government bodies of the Russian Federation, organizations and citizens.
Moreover, in the fourth section of the Strategy, a priority development scenario for the information society in Russia is formulated and it is noted that there have already been formed national process platforms for online education, online medical service, unified infrastructure of e-government, and the National Electronic Library (p. 50).
Thus, the priority and promising development path for the information society is transition to process platforms where all engaged parties can communicate. Executive authorities can act as coordinators and regulators but at the same time be subject to the online interaction mode with other participants within the horizontal P2P network.
The idea of ‘platformed state’ (‘state as a platform’, state organized as a digital platform) means a gradual switch to digital format, where the platform user and the state communicate via software application interfaces supplied by numerous private developers based on the principles of the free API of the ‘platformed state’. Big Data will be collected offline (and immediately digitized) and online, and analyzed for the user of the solution. Digital user identification and blockchain technologies will guarantee both safety and ‘transparency’ of the system operation.
The Prosecutor General’s Office in the Russian Federation is one of the first to demonstrate an example of practical implementation, development of the legal framework and regulatory environment for the digital transformation of law enforcement bodies based on the introduction of process platforms. According to the Concept of Digital Transformation of Bodies and Authorities of the Prosecution Service, the key direction of this transformation is a high-tech supervision based on the comprehensive optimization of supervisory functions of a common secure digitalplatform intended for providing electronic interaction of prosecution authorities of all levels among themselves and with other state bodies, and introduction of modern mechanisms and technologies to prevent cybercrime and offenses in digital environment.
И связано это с созданием условий для оперативной реализации надзорных функций в связи с цифровизацией объектов надзора1.
Таким образом, «Государство-платформа» - это форсированная цифровизация и внедрение новых моделей организации деятельности, которая служит знаковым ориентиром перевода деятельности органов предварительного расследования на научные основы организации труда, оптимизации деятельности всех правоохранительных органов. Такой переход на информационно-технологическое обеспечение является неизбежным, так как формирование единого информационного пространства повлекло создание многочисленных информационных ресурсов, фиксирование данных, сведений и знаний на соответствующих носителях информации. При этом многочисленные организационные структуры обеспечивают функционирование и развитие единого информационного пространства, в частности сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации, а также объединение: различных сетей, систем и комплексов средств связи; средств информационного взаимодействия граждан с правоохранительными органами и их доступа в определенном правовом режиме к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий.
В этих новых условиях цифровой трансформации, создания единого информационного пространства цифровая экономика второго поколения становится «датацентричной» [15, с. 26]. Использование датацентричного подхода к деятельности органов власти и организаций, а также к построению информационной архитектуры, при котором данные являются первичным материалом для обработки и принятия решений, постоянно доступны и готовы к использованию владельцами или держателями с целью решения аналитических задач и получения конкурентных преимуществ. Цифровая трансформация - это глубокая реорганизация, реинжиниринг бизнес-процессов с широким применением цифровых инструментов в качестве механизмов исполнения процессов, что приводит к существенному (в разы) улучшению характеристик процессов (сокращению времени их выполнения, исчезновению целых групп подпроцессов, увеличению выхода, сокращению ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов, и т. д.) и/ или появлению принципиально новых их качеств и свойств (принятие решений в автоматическом режиме без участия человека и т. д.) [21, с. 12]. Данные и программные продукты становятся главным инструментом и ключевым механизмом управления всеми технологическими процессами технологических платформ, они перемещаются в цифровые облака, а основным каналом и пространством обращения данных становится Интернет. С точки зрения руководителя и организатора деятельности, датацентричная архитектура - это прежде всего новое качество управления, основанного на анализе всего объема доступной информации.
Если проводить параллели между цифровизацией общества и действующей технологией уголовно-процессуальной деятельности, то становится понятно, что невозможно осуществить цифровую трансформацию в условиях бесконечного потока бумажных документов, в отдельных кабинетах, создавая дублирующие друг друга информационные системы, которые будут ограничены «стенами» ведомств. Должна меняться организация получения криминалистически значимой информации в электронном виде для принятия промежуточных решений. Приоритетом должны стать обретение цифровых навыков и знаний сотрудниками правоохранительных органов и действительное понимание возможностей, которые дают технологии. Такой подход связывает приоритет цифровой трансформации органов предварительного расследование и научную организацию труда, новые информационные и цифровые компетенции сотрудников органов предварительного расследования. Под информационной компетенцией понимается способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности, а также способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением реалий их взаимосвязей и перспектив использования [4, с. 11].
This is the way to create conditions for fast implementation of supervisory functions in the context of digitalization of supervised entities1.
Thus, the ‘platformed state’ program is a forced digitalization and introduction of new models of operation management, which serves as a clear reference point for the transition of preliminary investigation bodies to science-based labor management and optimization of the activity in all law enforcement bodies. Such a transition to information technology support is inevitable because the formation of a common (shared) information space has resulted in creation of numerous information resources, data, information and knowledge content recorded on the relevant media. Moreover, numerous organizational structures ensure functioning and development of the common information space, in particular, collection, processing, storage, distribution, search and transmission of information, as well as integration of various networks, systems and communication complexes; means of communication between citizens and law enforcement bodies, and access of the latter to information resources within the legal framework based on relevant information technologies.
Under these new conditions of digital transformation and building a common information space, the second-generation digital economy is transforming to the data-centered model [15, p. 26]. Using the data-centric approach to the activities of government bodies and organizations and also to building-up the information architecture means that data is seen as the primary material for processing and decision-making, they are constantly available and ready for the use by their owners or holders to solve analytical problems and gain competitive advantages. Digital transformation is a profound reorganization, reengineering of business processes with widespread use of digital tools as mechanisms for process execution, which leads to a dramatic improvement in the process performance (reduction in the execution time, elimination of the whole groups of subprocesses, increase in the output, reduction of resources spent on processes execution, etc.), and/or emergence of fundamentally new process qualities and properties (automatic decision-making without human intervention, etc.) [21, p.12]. Data and software products become the main tool and key mechanism for managing all processes on process platforms. They are placed in digital clouds, and the Internet becomes the main channel and space for data circulation. From the position of a manager of activity, data-centric architecture is, first of all, a new sort of management based on the analysis of entire volume of the available information.
If we draw parallels between the society digitalization and the current process of criminal proceedings, it becomes clear that it is impossible to perform digital transformation in the endless flow of paper documents in isolated offices by means of creating overlapping information systems that would be confined to the ‘walls’ of departments. There should be changed the pattern of obtaining forensic information in electronic form for making interim decisions. Priority should be given to acquisition of digital skills and knowledge by law enforcement officials and developing the actual understanding of opportunities that technology provides. This approach ties the priority of digital transformation of preliminary investigation bodies to the science-based labor management, developing new information and digital competencies in personnel of preliminary investigation bodies. Information competence is understood as the ability to solve standard tasks in professional activity on the basis of information culture, using information and communication technologies, taking into account basic requirements of information security, as well as the ability to apply information and communication technologies in professional activities, understanding their relations and application advantages [4, p .11].
Исходя из требований цифровой трансформации мы связываем научный подход к уголовно-процессуальной деятельности на стадии предварительного расследования с такими характеристиками, как качество, эффективность и результативность.
В понятии «эффективность» акцент делается на «делать правильно», когда в приоритете - «процесс» (делать) и «метод» (правильно) [29, рр. 53-60]. Таким образом, лучший результат процесса должен достигаться при оптимальных настройках системы, т. е. с наименьшими потерями.
В этих условиях предъявляются новые требования к научной организации труда сотрудников органов предварительного расследования. Под научной организацией деятельности следователя как формы практической реализации И. П. Можаева понимает непрерывную научно организованную и научно обоснованную деятельность, характеризующуюся комплексом правовых, экономических, социальных, научно-технических, организационных и иных условий повышения ее эффективности, осуществляемую на основе рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию и интенсификацию трудовой деятельности [13, с. 140].
Давая определение научной организации деятельности следователя, автор, к сожалению, не учитывает современные реалии и не упоминает информационные технологии как главную составную часть научной организации труда органов предварительного расследования. Вместе с тем в своих выводах о научной организации деятельности следователя автор полагает, что эта деятельность должна быть основана на последних достижениях естественных, технических и правовых наук как важном средстве достижения высокой производительности и эффективности при одновременной экономии ресурсного обеспечения деятельности следователя.
Итак, результатом цифровизации общества является сквозная интегрированность всех данных (внутренних и внешних) из всех систем, тем самым обеспечивается высокая доступность данных для анализа. Например, данные из открытых источников, СМИ, социальных сетей, систем видеонаблюдения, биометрических персональных данных, интернет-сервисов и т. д. Использование новой цифровой информации в аналитической деятельности органов предварительного расследования позволяет быстро и эффективно решать задачи, которые ранее не решались вовсе либо решались крайне сложно, например выдвигать и проверять версии, изучать личность, проверять алиби. Доступность для анализа большого объема новой информации и есть тот феномен, который принято называть сегодня Big Data, или «большие данные».
Научно обоснованный подход на стадии предварительного расследования предполагает возможность использования информационных технологий для сбора доказательственной информации в кратчайшие сроки, что делает ее полноценными допустимыми доказательствами в суде.
Ярким примером использования данных является уголовное судопроизводство США, где по общему правилу, согласно доктрине hearsay, документы считаются производными доказательствами и не принимаются судом. Содержание доказательственной информации, содержащейся в документах, доводится до суда свидетелями, т. е. людьми составившими, хранившими или обнаружившими этот документ [30, р. 96]. Но суды США, как правило, принимают электронные (цифровые) документы, если доказано, что они подпадают под исключение, предусмотренное для хозяйственных документов. Согласно правилу 803 (6) Федеральных правил доказывания США, они называются «документы регулярно осуществляемой деятельности». Данная норма к ним относит меморандум, отчет, изложение или сводку данных в
Based on the above discussions on digital transformation, we consider the science-centered approach to criminal procedural activities at the phase of preliminary investigation to be related to such characteristics as ‘quality’, ‘efficiency’ and ‘effectiveness’.
In this context, new requirements are imposed on the science-based labor management for employees of preliminary investigation bodies. I. P.Mozhaeva understands science-based management of an investigator’s activity as continuous scientifically organized and scientifically substantiated activities characterized by a complex of legal, economic, social, scientific, technical, organizational and other conditions increasing their efficiency, and performed based on recommendations that ensure optimization and intensification of labor [13, p.140].
Giving definition of the science-based labor management for investigators, the author, unfortunately, does not take into account modern realities and does not mention information technology as the key component of the science-based labor management for preliminary investigation bodies. At the same time, in her conclusions about the science-based management of investigators’ activities, the author states that these activities should be based on the latest achievements of the natural, technical and legal sciences as important means of achieving high performance and efficiency while saving resources.
Thus, the result of the society digitalization is the end-to-end integration of all data (internal and external) from all systems. This is the way to ensure high data availability for the analysis. For example, data from public sources, mass media, social networks, video surveillance systems, biometric personal data, Internet services, etc. Use of new digital information in analytical activities of preliminary investigation bodies provides quick and effective solutions of the problems that have not been previously solved at all or have been extremely difficult to solve (e.g. setting out and following up leads, studying personality, verifying alibis). A large amount of new information available for analysis is that very phenomenon that today is commonly referred to as Big Data.
A science-based approach at the preliminary investigation phase involves the possibility of using information technology to collect evidence in the shortest time possible and turn it into robust acceptable evidence in court.
A clear-cut example of using data can be seen in the U.S. criminal proceedings, where, as a general rule, according to the hearsay doctrine, documents are considered derivative evidence and are not accepted by the court. The content of the evidence contained in the documents is brought to court by witnesses, i.e. people who compiled, stored, and discovered this document. However, as a rule, the U.S. courts accept electronic (digital) documents if it is proved that they are qualified for the exception assigned to business documents. Rule 803 (6) of the U.S. Federal Evidence Rules calls them Regularly Operated Documents. According to the Rule, these are memorandum, report, statement or summary of data in any form on
Зайцев О. А., Пастухов П. С.
Zaytsev O. A., Pastukhov P. S.
любой форме о действиях, событиях, условиях или заключениях, составленные лицом, обладающим соответствующей информацией, или на основе полученной от такого лица информации, если такие документы ведутся в рамках регулярно осуществляемой хозяйственной деятельности и если такая деятельность предполагает регулярное составление меморандумов, отчетов, изложений или сводок данных согласно показаниям ответственного лица или иного надлежащего свидетеля, если источник информации, способ или обстоятельства получения не указывают на их недостоверность. При использовании в настоящем пункте понятие «хозяйственная деятельность» включает коммерческую деятельность, деятельность учреждения, объединения и любую профессиональную деятельность, в том числе осуществляемую не с целью извлечения прибыли1.
По своей сути это и есть данные, накапливаемые в ходе указанных видов деятельности, которые формируют датацентричную экономику. Применяя эти критерии, суды США указывали, что электронные (цифровые) документы могут быть допущены в качестве хозяйственных документов, если они составлялись и велись в соответствии со стандартной процедурой, что свидетельствует об их достоверности2.
Из вышесказанного следует, что суды США в большинстве случаев доверяют надежности работы компьютерных программ, которая может быть установлена, тем более что пользователи программы регулярно полагаются на нее в ходе обычной хозяйственной деятель-ности3. Таким образом, судом сформирован довод о том, что обстоятельства обычной хозяйственной деятельности указывают на их достоверность, по крайней мере, если абсолютно ничто в документе не позволяет усомниться в ней4.
-
1 Федеральные правила доказывания. URL: https://www.law . cornell.edu/rules/fre (дата обращения: 09.08.2019).
-
2 Computer Records and the Federal Rules of Evidence-Orin S. Kerr, U.S. Department of Justice Executive Office for United States Attorneys United States Attorneys’ USA Bulletin March 2001. Vol. 49, № 2. URL: http://www.cybercrime . gov/usamarch2001_4.htm (дата обращения: 09.08.2019).
-
3 Дело United States v. Moore, 1991. № 90-1324. URL: https://casetext.com/case/us-v-moore-370 (дата обращения: 22.07. 2019).
-
4 Дело United States v. Briscoe, 1990. № 896 F.2d 1476. URL: https://casetext.com/case/us-v-briscoe-15 (дата обращения: 22.07.2019).
В отношении реформирования процесса предварительного расследования с методологической точки зрения предлагаем включить признак «использование достижений информационных технологий» в понятие научной организации труда органов предварительного расследования. Именно это составляет существо научной организации деятельности органов предварительного расследования, так как содержит признак «использование последних достижений науки и техники». Указанный признак будет нацеливать органы предварительного расследования на внедрение информационных технологий в свою деятельность, а главное, обеспечит достижение целей расследования с наименьшей затратой сил и средств, но с получением лучшего результата в ходе доказательственной деятельности.
Использование цифровой информации в стадии предварительного расследования
В центре всех изменений в результате цифровой трансформации, а следовательно, перестройки правоотношений лежит цифровая информация как главный компонент формирования нового типа деятельности. Именно цифровая информация в настоящее время является не только «сообщением, данными» между людьми, но и «орудием, средством» развития общественных отношений, бизнеса, осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности.
Современный подход к использованию цифровой информации в доказывании по уголовным делам исследовал А. И. Зазулин [7], раскрыв предпосылки ее использования на всех этапах процесса доказывания. Поддерживая его подход к цифровой информации, мы отмечаем ее многоцелевое значение ввиду ее уникальных свойств. Цифровая информация стала ценностью информационного общества, так как это – охраняемая законом тайна, объект и предмет преступного посягательства, средство повышения производительности труда, т. е. непревзойденный драйвер развития общества. С другой стороны, цифровая информация сама по себе может быть орудием и средством совершения преступления, а также следом преступной деятельности, который после процессуального закрепления становится электронным доказательством. Третье значение цифровой инфор- actions, events, conditions or conclusions compiled by a person who has relevant information, or based on the information received from such a person, providing that such documents are maintained as part of routine economic activity and if such activity involves regular issue of memoranda, reports, statements or data summaries according to the testimony of the responsible person or other appropriate witness given that the information source, method or circumstances of obtaining information do not give a sign of their unreliability. When used in this paragraph, the concept ‘economic activity’ includes commercial activity, the activities of an institution, association, and any professional activity, including non-commercial1.
Essentially, this is the data, accumulated in course of the above activities, that form the data-centered economy. Applying these criteria, the U.S. courts indicated that electronic (digital) documents may be admitted as business (economy) documents if they are compiled and maintained in accordance with the standard procedure which would testify their validity2.
It follows from the above that the U.S. courts in most cases trust the reliability of computer software that can be installed, and even more so the users of software regularly rely on it in course of routine economic activity3. Thus, the court formed an argument that circumstances of routine economic activity indicate their reliability (validity) at least if absolutely nothing in the document gives reason to cast doubt on it4.
Let us draw a conclusion concerning the discussed area in the reformation of preliminary investigation. In terms of methodology, we deem it necessary to include such an attribute as application of information technology achievements in the concept of science-based labor management in preliminary investigation bodies. This attribute will orient the preliminary investigation bodies to the introduction information technologies in their activities, and most importantly, will ensure achieving the objectives of investigation with the least expenditure of effort and money, however with the best result in evidence gathering.
Use of Digital Information in Preliminary Investigation
At the center of all the changes resulting from digital transformation, and therefore restructuring of legal relations, is digital information, a key component in formation of the new type of activity. It is digital information that currently acts not only as a ‘message or data’ in communication between people but also as a ‘tool or means’ of developing social relations, business, and performing law enforcement activities.
The contemporary approach to the use of digital information in evidence gathering in criminal cases was studied by A. I. Zazulin [7], who identified the prerequisites for its use at all stages of the evidence process. Supporting his approach to digital information, we should note its multi-purpose value due to its unique properties. Digital information has become a value in the information society, as it is simultaneously a secret protected by law, object and subject of criminal infringement, as well as a way to increase labor production rate, i.e. an unrivaled driver of social development. On the other hand, digital information is a tool and means of committing a crime, as well as a trace of criminal activity in the form of digital information which, after being procedurally recorded, becomes an electronic proof. Furthermore, digital information is used not just as a technical and forensic мации заключается в использовании ее не просто как технико-криминалистического средства и метода работы со следами преступлений, а как научно-технологического, постоянно развивающегося ресурса, так как является наиболее совершенным средством и методом идентификации, разработанным с учетом последних достижений науки и технологий. По существу, электронная информация создает новую технологию доказывания ввиду более совершенного и точного математического алгоритма и метода коммуникации между участниками уголовного судопроизводства с субъектами информационно-технологических систем, накапливающих уголовно-релевантную и криминалистически значимую информацию.
Качественные характеристики (общенаучные свойства) цифровой информации позволяют получать в более короткие сроки наиболее полные сведения о совершенном преступлении. Полнота получаемых сведений объективизирует совокупность сведений [19, с. 109-118], повышает достоверность и проверяемость источников информации. Цифровая информация, за счет математических алгоритмов, значительно повышает качество экспертно-криминалистической информации, которая представляет собой индивидуальную совокупность криминалистически значимых признаков объекта учета, выявляемых и фиксируемых с использованием специальных знаний, экспертно-криминалистических методов и средств, а это, в свою очередь, ускоряет идентификацию объектов. Кроме того, поиск, собирание, фиксация, хранение экспертно-криминалистической информации об объектах учета, используемых для решения задач расследования, позволяют провести предварительное или экспертное исследование в самые кратчайшие сроки, получить более объективное заключение эксперта. Как отмечает С. В. Зуев, объективную информацию можно получить с помощью исправных датчиков, измерительных приборов. Но, отражаясь в сознании конкретного человека, информация перестает быть объективной, так как преобразовывается (в большей или меньшей степени) в зависимости от мнения, суждения, опыта, знаний конкретного субъекта [10, с. 7]. Кроме того, цифровая информация визуализирует доказательственную информацию, что немаловажно при доказывании-убеждении в суде с участием присяжных заседателей.
С развитием технологии использования биометрических персональных данных цифровая информация позволяет формировать цифровой профиль личности. В результате правовых требований и регуляторной деятельности цифровой профиль личности начинает формироваться с рождения ребенка, уже в роддоме попадает в «океан данных», где возникает его «цифровой двойник». Далее «цифровой двойник» будет «обрастать» новыми данными. В течение жизнедеятельности гражданин будет использовать различные цифровые сервисы, получать различные услуги на платформенных сервисах, например платежные сервисы, банковские услуги, попадать в многочисленные системы видеонаблюдения, где вся информация будет храниться о нем навсегда, если ее принудительно не удалить. Эти данные составят цифровой профиль личности, именно их будет анализировать следователь благодаря цифровой информации.
Аналогичный подход к цифровым биометрическим персональным данным принят во многих зарубежных странах. Основные данные о гражданине и копии его документов могут быть привязаны к единому идентификатору в электронных базах данных, это делает возможным электронный документооборот. В государственном документообороте при получении госуслуг к идентификатору привязаны сканированные копии основных документов гражданина, хранящихся на облачном сервере, и для получения любой госуслуги ему достаточно указать свой идентификационный номер и ссылку на скан необходимого документа1.
Все сказанное свидетельствует о том, что цифровая информация является главным элементом цифровой трансформации и модернизации предварительного расследования, используя который, органы предварительного расследования смогут получать криминалистически значимую информацию, «не вставая со стула и не выходя из служебного кабинета».
tool and a method of working with criminal traces but also as a science and technology, constantly evolving tool, as it is a more advanced means and method of identification, developed based on the latest achievements of science and technology. Essentially, electronic information creates a new technology of providing evidence due to a more perfect and accurate mathematic logic and method of communication between participants in criminal trial proceedings and subjects of information technology systems that accumulate criminally relevant and valuable forensic information.
Qualitative characteristics (general scientific properties) of digital information make it possible to obtain the most complete information about the crime committed in shorter time. Completeness of the information obtained objectifies the data totality [19, pp. 109-118], increases the reliability and verifiability of information sources. Due to mathematical algorithms, digital information significantly improves the quality of forensic information, which is in essence an individual set of forensically significant features of the object of record. These features are identified and recorded with the use of specific knowledge, forensic methods and tools, which in turn accelerates identification of objects. Moreover, search, collection, recording, storage of expert forensic information about the objects of record used to solve investigation tasks makes it possible to conduct preliminary or expert research in the shortest possible time to get a more objective expert opinion. As S.V. Zuev noted, objective information can be obtained using fault-free sensors and instruments (measuring tools). However, reflected in the consciousness of a particular person, information is no more objective as it is transformed (to a greater or lesser extent) depending on the opinion, judgment, experience, knowledge of a particular subject [10, p.7]. In addition, digital information visualizes evidence-based in formation, which is important for evidence-based conviction in a jury.
With the development of technology based on application of biometric personal data, digital information enables creation of a digital personality profile. As a result of legal requirements and regulatory activities, a digital personality profile starts its development from the birth of a child, and yet in the maternity hospital it falls into the ‘ocean of data’, where it gets digitally ‘cloned’. Further on, this ‘digital clone’ would be ‘cluttered’ with more and more new data. During the course of life, a citizen would use various digital services, receive various services on platform services, for example, payment and banking services, be captured by numerous video surveillance systems, where all information about him would be stored forever if it is not forcefully deleted. These data would constitute a digital personality profile. It is the data that an investigator could analyze.
Study of the world experience shows that a similar approach to digital biometric personal data is applied in many countries. Basic data on the citizen and copies of his documents can be linked to a single identifier in electronic databases, which enables electronic document flow. The state-wide document flow works in such a way that when a citizen receives public services, he only needs to enter his identification number and a link to the scanned document required, since all the scanned copies of his main documents stored on a cloud server are linked to the identifier1.
All the above indicates that digital information is the main element of digital transformation and modernization of preliminary investigation. Using this element, the preliminary investigation bodies would be able to obtain forensic information ‘without getting up from the chair and not leaving the office’.
Совершенствование информационнотехнологического обеспечения предварительного расследования преступлений
В информационном обществе получение доказательственной информации из различных баз данных возможно только с помощью информационно-технологического обеспечения расследования преступлений. О необходимости информационного обеспечения уголовного процесса пишет С. В. Зуев, подчеркивая такой важный элемент, как идея информационного превосходства правоохранительных органов над преступностью [11, с. 4]. Он утверждает, что информационное обеспечение уголовного процесса носит межотраслевой характер, будучи «встроенным» в уголовно-процессуальную деятельность, органически взаимодействуя с ней, приобретает новое качество, что дает возможность говорить о нем как о правовом явлении в уголовном судопроизводстве.
Полагаем, что современное информационное обеспечение следует понимать не столько как процесс отыскания содержащейся в банках данных криминалистической регистрации уголовной, экспертной, справочной информации, но и как информационно-технологическую инфраструктуру, позволяющую получать доказательственную информацию из гласных и негласных источников, систем видеонаблюдения, компьютерных систем, сетей сотовой связи и др. На современном этапе развития информационное обеспечение деятельности по раскрытию и расследованию преступлений получило новое содержание и оснащение благодаря компьютерным технологиям обработки криминалистически значимой информации. Активное внедрение стало возможным только с развитием технологий по обработке и передаче данных, распространением аппаратных средств.
Итак, современное информационно-технологическое обеспечение отличается от традиционных технико-криминалистических средств и от ранее упомянутого информационного обеспечения тем, что в нем происходит объединение нескольких технико-криминалистических средств, баз данных, компьютерных систем, программного обеспечения в одну технологию. Например, объединение цифровых фотоаппаратов или видеокамер наблюдения со встроенными модемами позволяет получать цифровой образ следа преступления или фотоизображение лица и направлять запросы в базы данных криминалистических учетов. Автоматизированные информационные поисковые системы (АИПС) автоматически проверяют совпадение признаков проверяемого объекта и выдают рекомендательный список ранее зарегистрированных известных криминалистическим учетам объектов.
Примером может служить мобильный комплект ПАПИЛОН-ЛАТОП - новый инструмент эксперта-криминалиста при выезде на место происшествия, предназначенный для качественной фотосъемки и мгновенной передачи изображений обнаруженных следов пальцев рук и ладоней на проверку в АДИС ПАЛИЛ ОН1. Эта технология включает в себя оборудование для цифровой фотосъемки ПАПИЛОН-ФОСКО: цифровой фотоаппарат; блок осветителей; просветный планшет; WiFi SD-карта; смартфон с предустановленным программным обеспечением ПАПИЛОН-ЛАТОП. Центральный сервер АДИС ПАЛИЛ ОН выдает рекомендательный список лиц, чьи зарегистрированные отпечатки пальцев совпадают с объектом поиска. Полученная информация позволяет выдвинуть версии и повышает как общую вероятность раскрытия преступления «по горячим следам».
Таким же образом работает технология распознавания лица (find face). Камеры с такими функциями уже установлены во многих крупных города и на критически важной инфраструктуре города.
Практическое значение интегрированных технологий заключается в ситуации, когда компьютеры хранят огромные массивы такой информации в виде банков данных, а разрабатываемые и внедряемые средства управления банками данных (СУБД) и иное программнотехническое обеспечение позволяют не только во много раз сократить время обработки запросов, но и устанавливать корреляционные зависимости между объектами. Эволюция информационного обеспечения от уголовной регистрации до автоматизированных информационнопоисковых систем, аналитических систем больших данных превратилась сегодня в мощ-
Improvement of the Information Technology Support for Preliminary Investigation of Crimes
In information society, obtaining evidence from various databases is only possible with the help of information technology support for crime investigation. The need for information support of the criminal proceeding was discussed by S. V. Zuev. He emphasized such an important element as the idea of information superiority of law enforcement bodies over crime [11, p. 4]. This author asserts that information support of the criminal proceeding is cross-sectoral in nature; being ‘embedded’ in the criminal procedural activity and organically interacting with that, it acquires a new quality which makes it possible to discuss it as a legal phenomenon in criminal proceedings.
We believe that contemporary information support should be understood not only as a process of finding criminal, expert, reference information contained in the criminal registry data banks but also as information and technology infrastructure that allows obtaining evidence from public and secret sources, video surveillance systems, computer systems, cellular networks, etc. At the present phase, information support for crime detection and investigation has received new content and tooling due to computer processing of forensic information. Active implementation became possible only with the development of technologies for data processing and communication, and expansion of hardware.
Thus, contemporary information technology support is different from conventional technical forensic tools and previously mentioned information support as it combines several technical forensic tools, databases, computer systems, software into a single technology. For example, the combination of digital cameras or surveillance cameras with integrated modems enables obtaining a digital image of a crime trace or a face image and sending requests to the databases of forensic records. Automated information retrieval systems (AIRS) automatically check the concordance of the features of the verified object and issue a recommended list of previously registered objects known to forensic records.
An example is the PAPILLON-LATOP mobile kit - a new tool for a forensic expert used at the incident scene and intended for high-quality photography and instant transmission of the detected fingerprints and palm images to the PAPILLON ADIS1. This technology includes PAPIL-LON-FOSCO digital photography equipment: a digital camera; lighting unit; lumen tablet; Wi-Fi SD card; smartphone with the bundled PAPILLON-LATOP software. The hosting ADIS PAPILLON server issues a recommended list of persons whose registered fingerprints match the investigated object. The obtained information enables putting forward case versions and increases the overall probability of solving the crime ‘hot on the heels’.
The ‘find face’ technology operates in the same way. Cameras featuring such functions have already been installed in many large cities and on the critical city infrastructure facilities.
The practical value of integrated technologies is that computers store huge amounts of such information in the form of data pools, while the developed and introduced database management systems (DBMS), along with other types of software and hardware, make it possible not only to reduce query processing time by a factor of several times but also to establish correlations between objects. Evolution of information support from criminal recording (registration) to automated information retrieval systems, big data analytical systems has ное средство накопления, систематизации и использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия и расследования преступлений [32, р. 160].
Информационное обеспечение, основанное на новых технологиях, используемых повсеместно в правоприменительной и правоохранительной деятельности, следует называть информационно-технологическим обеспечением. Связано это с необходимостью обеспечения допустимости доказательств, так как любая цифровая информация, используемая в качестве доказательств, должна иметь свой технологический источник. Без указания на источник компьютерная информация существовать как доказательство не может. Поэтому Уголовнопроцессуальный кодекс в настоящее время оперирует понятием «электронный носитель информации». Но мы уже выступаем за признание цифровой информации, электронных документов в качестве вещественных доказательств, так как сам материальный носитель в большинстве случаев значения не имеет. Более того, практика подтверждает снижение оборота электронных носителей информации, отсутствие дисководов, даже портов и разъемов в компьютерах, размещение информации в облачных системах и передачу информации по беспроводной связи [33, р. 14]. Поэтому перспективное направление развития цифровой информации в датацентричной экономике, в эпоху больших данных и облачных систем, - это собирание цифровой доказательственной информации удаленным способом и фиксация ее в электронном уголовном деле.
Например, на основе анализа комплекса «Безопасный город» для исследования события преступления и установления личности преступника можно получить информацию через: видеонаблюдение и видеофиксацию, снятие, обработку и передачу видеопотока с камер видеонаблюдения; идентификацию и распознавание лиц; позиционирование подвижных объектов; геолокацию в режиме реального времени всего происходящего; исследование баз данных по уже произошедшим событиям по профилям1.
1 Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: распоряжение Правительства РФ от 3 дек 2014 № 2446-р (ред. от 18.10.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 50, ст. 7220.
В рамках анализа навигационной деятельности, связанной с определением и использованием координатно-временных параметров объектов, можно получить навигационную информацию, т. е. сведения об объектах местности, включающие в себя данные о местоположении их границ, форме и свойствах объектов местности, о координатах объектов навигационной деятельности, а также о навигационной обстановке в акваториях водных объектов и о ее изменениях, представленные в координатновременных параметрах и используемые в связи с осуществлением навигационной деятельности2.
Практические аспекты развития информационно-технологического обеспечения предварительного расследования можно увидеть на примере создания концепции единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России, которая начала активно разрабатываться с марта 2012 г. Эксплуатация ИСОД МВД России началась в 2015 г. ИСОД представляет собой совокупность используемых в Министерстве автоматизированных систем обработки информации, про-граммно-аппаратных комплексов и программнотехнических средств, а также систем связи и передачи данных, необходимых для обеспечения служебной деятельности ведомства.
По своему технологическому потенциалу система должна стать единым источником информации для всех сотрудников подразделений МВД, служить для организации электронного взаимодействия между ними, обеспечения разграниченного доступа к информационным ресурсам3.
Основным элементом инфраструктуры ИСОД является Единая информационная система централизованной обработки данных (ЕИС ЦОД), которая создается на нескольких территориально удаленных площадках. Она предназначена для размещения централизованных информационных систем и сервисов МВД и предоставления доступа к ним с использованием облачных технологий. За счет создания ЕИС ЦОД в МВД рассчитывают унифицировать используемые в ведомстве программно- now turned into a powerful tool for accumulation, systematization and use of forensic information in order to solve and investigate crimes [32, p.160].
Information support based on new technologies universally used in law enforcement practice should be referred to as information technology support. This is connected with the necessity to ensure admissibility of evidence, because any digital information used as evidence should have its own technological source. Computer information cannot exist as evidence without any data source reference. That is why the Code of Criminal Procedure currently uses the concept ‘electronic data storage medium’. However, we are already advocating the recognition of digital information, electronic documents as material evidence since a physical medium in most cases does not matter. Moreover, the evidence from practice shows a decrease in turnover of electronic storage media, absence of CD drives and even of ports and slots in computers, widespread placement of information in clouds and its wireless transmission [33, p.14]. Therefore, a promising direction in the development of digital information in data-centered economy in the era of Bid Data and cloud systems is the collection of digital evidence in a remote way and its recording in electronic criminal case files.
For example, based on the analysis of the Safe City complex intended for investigating the event of crime and identifying the criminal personality, information could be obtained through: video surveillance and video recording, output, processing and transmitting video stream from video surveillance cameras; face identification and recognition; positioning of moving objects; real-time geolocation of everything that happens; database examination by profiles with regard to events that have already occurred1.
As part of analysis of navigation activities related to the determination and use of the coordi-nate-to-time parameters of objects, it is possible to obtain navigation information, i.e. information about terrain features, including information about the location of their borders, their shape and properties, data on coordinates of navigated objects, as well as information about navigation situation in the examined water areas and its changes, presented in the coordinate-to-time parameters and used in connection with navigation2.
Practical aspects of the development of information technology support for preliminary investigation can be seen through the example of the United Information and Analytical Support System (ISOD) of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Its active development started in March 2012, and it was launched in 2015. ISOD is a combination of automated information processing systems, hardware and software systems and tools used by the Ministry, as well as communication and data transmission systems necessary for the operation of the agency.
In terms of its technological capabilities, the system is supposed to become a single source of information for all employees of the Ministry departments, serve to arrange electronic interaction among them, and provide differentiated access to information resources3.
The main element of the ISOD infrastructure is the Unified Information System for Centralized Data Processing (EIS TsOD), which is created at several geographically remote sites. It is designed to host centralized information systems and services of the Ministry of Internal Affairs and provide access to them using cloud technologies. By establishing the EIS TsOD data center, the Ministry of Internal Affairs expects to unify the software and технические решения и привести архитектуру основных автоматизированных информационных систем в соответствие современным требованиям к доступности и надежности. Он должен обеспечить консолидацию разнородных данных, содержащихся в различных системах МВД, и единую точку доступа к ним для использования в оперативно-служебной деятельности МВД.
Приходим к выводу, что информационно -технологические интегрированные платформы позволяют сотрудникам органов предварительного следствия (расследования?) получать информацию в инфраструктуре единого информационного пространства - от исследования следов на месте происшествия при обращении в базы данных до составления обвинительного заключения и направления дела в суд в электронном виде.
Совершенствование информационноаналитического обеспечения предварительного расследования преступлений
Условно деятельность следователя можно разделить на две составляющие: первая - поиск и сбор необходимой информации, вторая - анализ информации и обоснование выводов. Практика показывает взрывное увеличение накапливаемой цифровой информации за счет имеющихся у населения гаджетов, девайсов, датчиков и устройств, штрих кодов, QR-кодов, которые становятся источниками данных о поведении их пользователей, состоянии систем и процессов в самых разнообразных сферах деятельности человека. Новые данные создаются ежедневно, ежеминутно - это информация о коммуникациях людей, их передвижении, о движении транспорта, движении денежных средств, продажах, поставках, технологических процессах в промышленности и так далее, до бесконечности, формируя единое информационное пространство.
Эти новые условия определяют для органов предварительного расследования новую задачу - задачу интеграции неструктурированных данных, таких как голос (например, телефонные переговоры), видео (видеонаблюдение и видеосвязь), геолокация, телеметрия, данные социальных сетей и др. Данные процессы генерируют огромные объемы «сырых», необработанных, данных, которые необходимо хранить, делая их доступными для анализа. Криминалистические риски таких данных очевидны: кто обладает ими, тот не только владеет ситуацией, но и управляет миром. Сама информация создает условия для интеграции баз данных, информационных систем, всех видов учета в сложные информационные системы с распределенными базами данных, способными обрабатывать значительные объемы информации, формировать и передавать ответы на любые расстояния, в удобной форме. В зарубежной литературе этот процесс называется извлечением данных (Data Mining)1.
Data Mining в уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности - это просев информации, добыча данных, извлечение данных, а также интеллектуальный анализ данных, т. е. «обнаружение знаний в базах данных» криминалистически значимой доказательственной информации. Одно из важнейших назначений методов Data Mining состоит в наглядном представлении результатов вычислений (визуализация), особенно с использованием геоин-формационных систем. Такая визуализация, например, местонахождения подозреваемого, позволяет использовать наглядное доказательство по уголовным делам.
Практика показывает, что единое информационное пространство способствует существенному расширению информационной базы, необходимой для информационно-аналитической деятельности, снижению затрат на процессы поиска, обработки, хранения и отбора исходной информации. В ходе аналитической работы по обработке информации, содержащейся в многочисленных базах данных, решаются две важнейшие проблемы для предварительного расследования: познаются пространственно-временные и причинно-следственные связи между исследуемыми фактами, явлениями, процессами, связанными с событием преступления и причастными к ним лицами. В результате первоначально имеющиеся данные преобразуются в новую информацию о преступлении, результатах оперативно-служебной деятельности всех подразделений и служб правоохранительных органов. В ходе аналитической деятельности также используется опера- technical solutions used in the agency and bring architecture of the main automated information systems in line with contemporary accessibility and reliability requirements. It is supposed to ensure consolidation of diversified data contained in various systems of the Ministry of Internal Affairs and provide a single point of access to them for use in the intelligence activities of the Ministry of Internal Affairs.
It could be concluded that information technology integrated platforms allow employees of the preliminary crime investigation bodies to receive information within the infrastructure of a common information space, from preliminary investigation of traces at the incident scene by accessing databases to drawing up an indictment and submitting the case to the court in digital form.
Improvement of Data Analysis Support for Preliminary Investigation of Crimes
The work of investigators can be presented as divided into two areas: one area is search and collection of necessary information, the other one is analysis of the information and substantiation of conclusions. Nowadays, there is observed a dramatic increase in the volume of the accumulated digital information due to the gadgets, devices, sensors and units, barcodes, QR codes, which become sources of data on the behavior of their users, on the state of systems and processes in a wide variety of human activity areas. New data is generated every day, every minute. This is information on people’s communication, their movements, transport traffic, cash flow, sales, supplies, industrial processes etc. ad infinitum Thus, a common information space is formed.
Under these new conditions, preliminary investigation bodies are facing a new task - to integrate unstructured data, such as voice (for example, telephone conversations), video (video surveillance and video communications), geolocation, telemetry, social network data, etc. Such processes generate huge amounts of ‘raw’ unprocessed data that should be stored and kept available for analysis. Their forensic essence is simple and could be formulated in a few words: whoever controls data not only owns the situation but also rules the world. Availability of information creates the conditions for integration of databases, information systems, all types of accounts into complex information systems with distributed databases, capable of processing significant amounts of information, generating and transmitting responses at any distance, in a convenient form. In literature, this process is called Data Mining.1.
The essence of Data Mining in criminal procedural and forensic activities is reduced to information ‘sieving’, data extraction, as well as smart data analysis, i.e. ‘knowledge discovery in databases’ of forensically valuable evidence. One of the most important purposes of Data Mining methods is to visualize the results of computation (visualization), especially using geographic information systems. Such visualization, for example, location of the suspected person, allows using visual evidence in criminal cases.
The evidence from practice shows that functioning of a common information space contributes to a significant expansion of the information base necessary for data analysis, reduction of costs for search, processing, storage and selection of source information. In course of analytical work on processing information contained in numerous databases, two major issues for preliminary investigation are addressed: Time-and-space and cause-and-effect relations between the investigated facts, phenomena, processes related to the crime event and the persons involved get known. As a result, the initially available data is converted into new information about crime, results of the official intelligence operations of all departments and services of law enforcement bodies. In the process of analysis, different types of information are used тивно-справочная, розыскная, криминалистическая, архивная, научно-техническая и иная информация более высокого порядка, что позволяет принимать обоснованные оперативные и управленческие решения, осуществлять координацию и взаимодействие.
Тенденции системной интеграции государственных и негосударственных информационных ресурсов, детализация административных процедур идентификации, аутентификации, авторизации и регистрации физических и юридических лиц в информационном пространстве создают уникальные возможности для получения достоверной, релевантной и эргономичной информации, необходимой для информационно-аналитической деятельности.
Таким образом, можно говорить о новом содержании работы следователя, связанной с анализом информации из различных информационно-технологических источников. Информационно-аналитическую деятельность по расследованию преступлений следует понимать как процесс осуществления действий по поиску, анализу, обработке, производству, хранению, предоставлению и использованию информации, необходимой и достаточной для реализации соответствующих полномочий органов предварительного расследования и прокурора, посредством электронного документооборота с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и формирования достаточной совокупности доказательств по делу.
Технология аналитической работы следователя заключается в получении нового знания (выводной информации), обеспечивающего сложный процесс расследования, имеющий определенную логическую последовательность. Аналитический характер такого расследования состоит из взаимосвязанных рабочих операций, которые образуют технологический цикл отбора, группировки фактов о событиях, явлениях, процессах, где каждый факт обретает свое место и связан с предшествующими и последующими обстоятельствами в пространственно-временной и причинно-следственной зависимости причастных к преступлению лиц. Обобщение фактов, их научная обоснованная систематизация позволяют дать правильную оценку как всей совокупности фактов, так и каждого из них в отдельности.
Совершенствование процессуальной формы
«Процессуальная форма» является одним из основных и в то же время спорных понятий науки уголовного процесса. Объясняется это так: устанавливая определенный порядок уголовно-процессуальной деятельности, она (форма) как бы «консервирует» данный тип деятельности, а при любом отступлении от процессуальной формы, как правило, происходит нарушение принципа законности при производстве по уголовному делу.
По мнению большинства ученых, под уголовно-процессуальной формой следует понимать регламентированный уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному делу, т. е. последовательность стадий и условия перехода дела из одной стадии в другую, общие условия, характеризующие производство в конкретном этапе, основания и порядок производства следственных и судебных действий, а также содержание и форму процессуальных решений.
Тенденция к упрощению и ускорению уголовного судопроизводства, стремление к достижению процессуальной экономии в условиях цифровой трансформации придали новый импульс дискуссии о процессуальной форме, ее требованиях. Такую дискуссию порождает главная проблема предварительного расследования - его письменный характер, что становится препятствием для быстрого и объективного расследования преступлений и уже «не вписывается» в цифровое поле эпохи цифровой трансформации всех остальных видов социально-экономической деятельности. Электронный документ должен заменить письменные процессуальные документы, иначе письменный документ становится причиной деформации нашего уголовного процесса. Письменность привела уголовный процесс к оформительству, уродливому бумаготворчеству. Следователь вынужден описывать в протоколах информацию, содержащуюся на электронных носителях, которая уже зафиксирована: следователю приходится переписывать написанное, т. е. зафиксированное в электронном виде. Кроме того, следователь составляет огромное количество запросов, процессуальных документов, имеющих чисто формальное зна-
(reference, forensic, investigative, archive-based, scientific, technical and other information of a higher level), which allows making substantiated decisions, provide coordination and interaction.
Nowadays, we can observe such tendencies as system integration of state and private information resources, detailing of administrative procedures for identification, authentication, authorization and registration of individuals and legal entities in the information space - all this creates the unique opportunities to obtain reliable, relevant and ergonomic information required for data analytics.
Thus, we can speak of the new content of an investigator's work related to the analysis of information from various information technology sources. Data analytics in crime investigation should be understood as a package of measures to search, analyze, process, generate, store, provide and use information necessary and sufficient for preliminary investigation bodies and the prosecutor to exercise the relevant powers through the electronic document flow in order to reveal all circumstances of the committed crime and form a sufficient body of evidence on the case.
The process of investigators’ analytical work consists in obtaining new knowledge (output information) that serves the needs of the complex investigation process, characterized by a certain logical sequence. The analytical nature of such investigation consists of interconnected work operations that form the process cycle of selection and grouping facts about events, phenomena, processes, where each fact finds its place and is associated with previous and subsequent circumstances in time-and-space and cause-and-effect dependence of those involved in the crime. Generalization of facts, their science-based systematization allows us to give a correct assessment of both the totality of facts, and each of them individually.
Improvement of the Procedural Form
The procedural form is one of the basic and at the same time controversial concepts of the criminal proceeding science. This is explained by the fact that it establishes a certain procedure for criminal procedural activity and thus ‘preserves’ this type of activity. And in case of any deviation from the procedural form, as a rule, there takes place a violation of the principle of legality in criminal proceedings.
According to the majority of scholars, the criminal procedure form should be understood as the procedure for criminal proceedings regulated by the criminal procedure law, i.e. the sequence of stages and the conditions for transferring the case from one stage to another, the general conditions describing the proceedings at a particular stage, the grounds, conditions and procedure for implementing investigative and judicial actions, as well as the content and form of procedural decisions.
The tendency to simplify and accelerate criminal proceedings, provide resource saving in the context of digital transformation have newly boosted the discussion about the procedural form and its requirements. This discussion emerges due to the fact that the main problem of preliminary investigation is its written nature, which becomes an obstacle to quick and objective investigation of crimes and no longer ‘fits’ into digital activity in the context of digital transformation of all other types of social and economic activity. Electronic documents should replace written procedural documents, otherwise a written document would cause deformation of criminal proceedings. The paperbased system led the criminal proceedings to excessive formality and ugly paperwork. An investigating officer is forced to describe in protocols information on electronic media that has already been recorded, i.e. he has to rewrite the written (recorded in digital form). Investigating officers draw up a huge number of requests, procedural documents that are purely formal. As a result, the чение, в результате труд следователя уже давно превращен в монотонный и весьма напряженный процесс процессуального документирования.
Все сказанное свидетельствует о необходимости изменений подходов к процессуальной форме, в частности к изменению требований к фиксации доказательственной информации исключительно в протоколах. Протокол должен иметь одинаковый статус с электронным документом, аудиозаписью, видеозаписью, сведениями из баз данных. Только через изменение процессуальной формы может быть сделан переход к новым технологиям накопления сторонами информации и передачи этой информации (суду).
Новые подходы к формирован ию доказательств и их свойству - допустимости
В период построения датацентричной экономики, основанной на достоверной информации, на больших данных, информационноаналитических системах важно пересмотреть подход к содержанию и этапам формирования доказательств в уголовном процессе. Полагаем, что настала пора не только задуматься об использовании автоматически накапливаемой информации, почти об всех аспектах социально-экономической жизни на стадии предварительного расследования, при доказывании-поиске, но и переходить «от документов -к данным». Современные, более объективные информационно-технологические возможности обеспечения сбора, хранения, обработки и упорядочения всех необходимых данных, определения правил разграничения доступа к данным (включая отнесение их к различным степеням секретности) и защиты данных, хранения и архивирования данных, ответственность за правильность данных, установление приоритета доверенных данных над бумажными документами - все это позволит осуществить полный отказ от бумажного документооборота и перевод процессов в цифровую форму.
Для такого перехода следует обратиться к этапам формирования доказательств в досудебном и судебном производстве. При этом необходимо различать сохранение доказательственной информации из информационно-телекоммуникационных сетей в электронной форме и электронный способ собирания и фиксации любой доказательственной информации, который облегчает сам процесс собирания доказательств [8, с. 44].
Как мы уже отмечали, на досудебных стадиях органы предварительного расследования при исследовании обстоятельств совершенного преступления устанавливают факты-1 - наличие оставленных следов произошедшего преступного события, факты отражений механизма преступления в окружающей обстановке. На основе изучения следов преступления с помощью технико-криминалистических, информационно-технологических средств, производства следственных действий органы расследования получают знания на уровне фактов-2. Этот уровень знаний в виде фактов-2 служит основанием для принятия решений в ходе досудебного производства. В ходе судебного разбирательства на основе фактов-2, после их проверки в состязательной процедуре, будет сформировано окончательное знание суда, присяжных заседателей - факты-3. Итак, доказательства получают свое окончательное оформление, содержание, а самое главное - уголовно-процессуальное значение для вынесения законного, обоснованного, мотивированного и справедливого приговора по результатам судебного разбирательства [17, с. 96; 18, с. 108].
О данном подходе к формированию доказательств мы напомнили по нескольким причинам. Одна из причин связана с нашим предложением в сфере о формировании новой стратегии предварительного расследования, т. е. о переходе от документов к данным в условиях цифровизации общества.
Кроме того, в Национальном стандарте Российской Федерации системы менеджмента качества (п. 3.8.1) данные (data) понимаются как факты об объекте. В свою очередь, объект (object), сущность (entity), элемент (item) - это что-либо воспринимаемое или воображаемое (и. 3.6.1) . Объектом могут быть продукция, услуга, процесс, лицо, организация, система, ресурс. Объекты могут быть материальными и нематериальными. Таким образом, регуляторные документы цифрового общества определяют данные как факты.
Вторая, сугубо практическая, причина связана уже не с дефинициями, а с расширением понятия «данные» в уголовно-процессуальном доказывании на различных этапах формирова- work of investigators has long been turned into a monotonous and very stressful process of documenting the procedure.
All of the above testifies to the need for changes in approaches to procedural form. Specifically, there should be changed the requirement that evidence-based information must be recorded exclusively in protocols. Protocols should have an equivalent status with electronic documents, audio or video recordings, information from databases. Transition to new technologies in accumulating information by parties and transferring it (to the court) could only be made through changing the procedural form
New Approaches to Evidence Building and Admissibility as Its Property
In the context of building a data-centric economy based on reliable information, Big Data, information and analytical systems, it is important to revise the approach to the content and stages of evidence generation in criminal proceedings. It is time to think not only about using automatically accumulated information on almost all sides of socio-economic life at the phase of preliminary investigation, when proving and searching, but also to switch ‘from paper documents to electronic data’. X complete rejection of paper document flow and digitalization of processes would be possible due to the contemporary, more objective IT capabilities that make it possible to ensure gathering, storage, processing and arrangement of all necessary data, to determine rules for distributed access to data (including assigning them to various degrees of secrecy), data protection, storage and back-up, responsibility for data consistency, establishing the priority of trusted data over paper documents.
Let us consider the phases of building evidence in pre-trial and judicial proceedings. It is necessary to distinguish between the storage of evidence from information and telecommunication networks in electronic form and the electronic method of gathering and recording any evidentiary information that facilitates the process of evidence gathering [8, p. 44].
As we discussed earlier, at pre-trial phases, when examining the circumstances of the crime, preliminary investigation bodies establish facts-1, i.e. those criminal events that followed from the traces left, i.e. facts of the crime mechanism reflection in the environment. Based on the study of crime traces with the help of technical forensic and information technology means and investigative proceedings, investigation bodies receive knowledge at the level of facts-2. This level of knowledge serves as the basis for decision-making during pre-trial proceedings. In course of the trial, based on facts-2, the final knowledge of the court and jurors would be formed, after their verification in the adversary procedure. These are fact-3. Thus, the evidence gets its final form, content and, what is most important, its significance for the criminal procedure in order to deliver a legitimate, reasonable, motivated and fair verdict based on the results of the trial [17, p. 96; 18, p. 108].
We focused on this approach to evidence building for several reasons. One of the reasons is related to our proposal to develop a new preliminary investigation strategy, i.e. provide the transition ‘from documents to data’ in the context of digitalized society.
In addition, in the National Standard of the Russian Federation for Quality Management System (Clause 3.8.1) data is understood as facts about the object. In turn, an object, an entity, an item is something sensed or imagined (Clause 3.6.1). An object can be represented by a product, service, process, person, organization, system, resource. Objects can be tangible and intangible. Thus, regulatory documents of digital society define data as facts.
Another, exclusively practical reason, is connected not with definitions but with broadening the concept ‘data’ in criminal procedure evidence at ния доказательства, «уровнях доказывания». Эти данные мы предлагаем понимать как «фактические материалы». Фактические материалы - это совокупность носителей информации, включая электронные носители информации, которые предоставляются суду и служат источником для судебных доказательств. Ход и результаты досудебного уголовного производства составляют фактические материалы, т. е. совокупность материальных носителей электронной и иной информации, откуда она может быть передана (предоставлена) суду и верифицирована, может содержать указание на объект, процесс, среду, отсюда участники судебного процесса могут ее непосредственно извлечь, получить и воспринять. Судебное доказательство основывается на сведениях, содержащихся в фактических материалах, путем производства судебных следственных действий.
Чтобы «фактические материалы» воспринимались как доказательства на стадии предварительного расследования и при предоставлении их в суд, необходимо пересмотреть свойство допустимости доказательств. Действующие жесткие требования оформительского характера к доказательствам тормозят процесс цифровизации в уголовном процессе. Институт допустимости доказательств, содержащих электронную информацию, должен быть пересмотрен в направлении отказа от ее следственных гарантий в пользу технических гарантий верифицируемое™ и полезности доказательства: полезность электронной информации «сильнее» допустимости. Если информация позволяет установить истину по делу и судья удостоверяется в том, что не были допущены прямо установленные в законе запреты при ее получении, а допущенные нарушения могут быть исправлены в ходе справедливого судебного разбирательства, то он допускает ее в качестве доказательства юридически значимых фактов по делу. Допустимость электронных носителей информации, электронной информации определяется возможностями субъекта, представляющего ее в качестве доказательства, подтвердить суду ее аутентичность путем представления сведений о цепи законных владений.
В этом видится переход к новым технологиям накопления сторонами информации и передачи этой информации (суду). Вся досудебная подготовка «фактических материалов» для формулирования и выдвижения обвинения, принятия иных процессуальных решений должна проводиться любыми не запрещенными законом способами. Любые относимые к предмету спора фактические данные, полученные во время досудебного производства без нарушения закона, должны быть допущены к взаимной проверке и оценке в суде.
Следовательно, любой фактический материал, независимо от формы, источника происхождения, способа собирания, может быть проверен и оценен судьей как доказательство при активном участии сторон. Реализация этого предложения освободит следователя от рутинного описания в протоколе доказательственной информации из многочисленных источников цифровой инфраструктуры, придаст получаемым и сохраненным данным (доказательствам) свойство допустимости.
Изменение статуса результатов ОРД и их использование в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве
Современные информационные, телекоммуникационные технологии, автоматическая фиксация компьютерными средствами (без участия человека): интернет-трафика; коммуникаций в сетях сотовой и иной связи; движения денежных средств в банковской сфере и торговле; движения транспортных средств; местонахождения сотового телефона - стирают различия между предварительным следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью (ОРД) по собиранию этой информации. Указанная доказательственная информация об обстоятельствах совершенного преступления может быть получена технологическим способом независимо от правового статуса и компетенции служб и подразделений органов предварительного расследования. В этой связи мы считаем, что необходимо снять искусственные барьеры между следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. В этом и заключается новая оптимальная информационнокоммуникационная модель досудебного доказывания, которая кардинально повысит эффективность уголовного преследования на этапе предварительного расследования.
Включение гласной оперативно-розыскной деятельности в состав уголовно-процессуального доказывания - это магистральное направ- different phases of evidence building (‘levels of evidence’). We propose to understand this data as ‘factual materials’. Factual materials are a collection of information media, including electronic information media, which are submitted to the court and serve as a source for judicial evidence. The course and results of pre-trial criminal proceedings are factual materials, i.e., a combination of physical media of electronic and other information, from which it can be supplied (submitted) to the court and verified; this information can contain a reference to the object, process, environment; the participants in the trial can directly extract, receive and apprehend information from these media. Judicial evidence is derived from information contained in factual materials through judicial investigative actions.
In order for ‘factual materials’ to be apprehended as evidence at the phase of preliminary investigation and when being submitted to the court, it is necessary to revise the property of admissibility of evidence. The current strict bureaucratic requirements for evidence hinder digitalization process in criminal proceedings. In the light of evidence containing electronic information, the institution of admissibility should be revised by rejecting its investigative guarantees in favor of technical guarantees of verifiability and practical value of evidence: practicability of electronic information is ‘stronger’ than admissibility. If the information allows establishing the truth in the case and the judge verifies that the prohibitions directly established by law were not tolerated when obtaining the information, and the committed violations can be corrected in a fair trial, then the judge admits it as evidence of legally significant facts in the case. Admissibility of electronic information media is determined by capabilities of the entity submitting it as evidence to confirm its authenticity to the court by providing information on the chain of legal possessions.
This may be seen as a transition to new technologies of information accumulation and supply (to the court) by the parties. All pre-trial prepara tion of ‘factual materials’ for formulation and prosecution, making other procedural decisions should be carried out by any means not prohibited by law. Any factual data relevant to the subject of dispute obtained during pre-trial proceedings without violating the law must be admitted to examination and evaluation in the court.
Therefore, any factual material, regardless of its form, source of origin, method of gathering, can be examined and evaluated by the judge as evidence with the active participation of the parties. Implementation of this proposal would free investigating officers from routine filling in protocols with evidence gathered from numerous sources of digital infrastructure, and would give the obtained and stored data (evidence) the property of admissibility.
Changing the Status of Law Enforcement Intelligence Operation Results and Using Them as Evidence in Criminal Proceedings
Contemporary information and telecommunication technologies, automatic recording by the computer (without any human interaction) of: the Internet traffic; communications in cellular and other communication networks; cash flow in the banking sector and trade; vehicle traffic, as well as automatic detection of the cell phone location erases the differences between preliminary investigation, legal inquiry and law enforcement intelligence operations aimed at collecting this information. The specified evidential information on the crime circumstances may be obtained by technological means regardless of the legal status and competence of the services and departments of preliminary investigation bodies. In this regard, we deem it necessary to remove artificial barriers between investigation, inquiry and law enforcement intelligence operations. It would represent a new optimal information and communication model of pre-trial evidence, which would dramatically increase the efficiency of criminal prosecution at the phase of preliminary investigation.
Inclusion of publicly-available law enforcement intelligence operations in the process of criminal procedure evidence is the mainstream of the ление модернизации уголовного судопроизводства, отвечающее требованиям международных стандартов [23, с. 14]. Собирать доказательства органы публичного уголовного преследования должны быть уполномочены посредством производства как гласных, так и негласных следственных действий с момента получения сообщения о преступлении в виде фактических материалов уголовного дела обвинения.
Например, в соответствии со статьей 93 Криминально-процессуального кодекса Украины («Сбор доказательств»), сторона обвинения осуществляет сбор доказательств путем проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий, истребования и получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, служебных и физических лиц вещей, документов, сведений, заключений экспертов, выводов ревизий и актов проверок, проведения других процессуальных действий.
Представители нижегородской школы процессуалистов давно выступают за допустимость использования данных, полученных в результате ОРД, в уголовном процессе [3, с. 77-81]. Сущность их предложений заключается в признании ОРД полноценной технологией по производству достоверного информационного продукта, т. е. доказательства [22, с. 77-81].
Стирание различий между предварительным следствием, дознанием и оперативноразыскной деятельностью вызвано интеграционными процессами в самой правоохранительной системе. В практике ОРД используются общие данные криминалистической регистрации, базы данных полиции, автоматизированные информационные системы, а также информационные средства специального назначения, позволяющие быстро ориентироваться в обстановке места происшествия и организовать поиск доказательств по «горячим следам».
Собирать доказательства органы публичного уголовного преследования должны быть уполномочены путем проведения гласных и негласных следственных мероприятий под надзором и руководством прокурора и под контролем суда. При проверке допустимости доказательств сторонам должна быть предоставлена реальная возможность исследования первоисточников доказательств. Таким образом, необ ходимы дедифференциация и деформализация досудебного доказывания. Предложенные изменения составляют неотъемлемый компонент новой стратегии и значительно повысят эффективность деятельности органов предварительного расследования.
Взаимодействие с субъектами информационно-технологических систем
Традиционное взаимодействие заключается в совместном сотрудничестве следователя и органа дознания, согласованном по задачам, месту и времени. Такое сотрудничество осуществляется в пределах их компетенции в целях полного и быстрого раскрытия преступлений, всестороннего и объективного расследования уголовного дела и розыска скрывшихся преступников, похищенных ценностей и иных объектов, существенных для дела. Взаимодействие является одной из функций управленческой деятельности, оно обеспечивает разделение труда и согласованность действий, позволяет экономить силы, средства, время. На его основе решаются задачи, что невозможно при разрозненных, разобщенных действиях.
Как мы уже неоднократно упоминали, современный информационно-технологический уклад общества формирует единое информационное пространство на основе многочисленных распределенных баз данных, информационнотехнологических источников. Субъектов информационно-технологических систем огромное количество и становится еще больше по мере развития информационных технологий. К негосударственным субъектам информационно-технологических систем, которые накапливают информацию о процессах и событиях, оказывают содействие следователю при расследовании инцидентов информационной безопасности, использования преступниками информационных технологий в своей преступной деятельности, можно отнести: операторов информационной системы; провайдеров связи; интернет-провайдеров; системных администраторов; владельцев сайтов в сети Интернет; организаторов распространения информации в сети Интернет; навигационные службы; службы безопасности банков; операторов платежных систем.
К государственным субъектам следует отнести: отделы (управления) «К» МВД России;
criminal proceeding modernization, meeting the requirements of international standard [23, p.14] and taking into account the world practices. Public criminal prosecution authorities must be authorized to collect evidence through both public and secret investigative actions from the moment they receive a report of a crime in the form of factual materials on the criminal case issued by the prosecutor.
For example, in accordance with Article 93 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine (‘Evidence Gathering’), the prosecution party collects evidence via investigative (search) actions and covert investigative (search) actions, inquiry and receiving from state authorities, local authorities, enterprises, institutions and organizations, officials and individuals of things, documents, information, expert opinions, audit reports, acts of inspections, and via other procedural actions.
Representatives of the Nizhny Novgorod school of trial procedure theory have been long advocating the admissibility of using data obtained from law enforcement intelligence operations in criminal proceedings [3, pp. 77-81]. The essence of their proposals consists in recognition of law enforcement intelligence operations a robust technology sufficient for producing a reliable information product, or evidence [22, pp.77-81].
Erasing the differences between preliminary investigation, inquiry and law enforcement intelligence operations is caused by integration processes in the law enforcement system itself. These authorities use the general forensic records, police databases, automated information system data, and special-purpose information tools that enable quick navigation over the accident environment and arrangement of search for evidence ‘hot on the heels.’
Public criminal prosecution authorities should be authorized to collect evidence by taking public and secret investigative measures under the supervision and guidance of a prosecutor and supervision of the court. When checking admissibility of evidence, the parties should be given a real oppor tunity to study the original sources of evidence. Thus, dedifferentiation and deformalization of pretrial evidence is required. The proposed changes are an integral component of the new strategy that would significantly increase the efficiency of the preliminary investigation bodies.
Interaction with Subjects of Information Technology Systems
The conventional interaction consists in the joint cooperation of the investigating officer with the inquiry body in the manner agreed in purpose, place and time. Such cooperation is performed within their competence with a view to the full and quick crime solving, comprehensive and objective investigation of the criminal case and search for escaped criminals, stolen property and other objects essential to the case. Interaction is one of the functions of management, it ensures labor specialization and coordination of actions, allows saving efforts, money, time. Tasks that cannot be solved by disparate and fragmented actions are realized through interaction.
As repeatedly mentioned, the contemporary information technology context develops a common information space on the basis of numerous distributed databases and information technology sources. There is a huge number of subjects of information technology systems, which is getting bigger and bigger under the development of information technology. Private (non-state) entities of information technology systems accumulate information about processes and events, assist investigators in investigating incidents connected with information security, use of information technology by criminals in their criminal activities. These subjects may include information system operators, communication providers, Internet providers, system administrators, web-site owners, web distributors of information, navigation services, bank security services, operators of payment systems.
Among state subjects of information technology systems are: ‘K’ departments of the
АПК «Безопасный город»; Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Рос-связькомнадзор) ; Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК); центр организации дорожного движения (ЦОДД); органы, обслуживающие единую систему идентификации и аутентификации; органы, обслуживающие единую биометрическую систему, содержащие биометрические персональные данные; отделы Интерпола.
Все вышеперечисленные негосударственные субъекты, а тем более государственные обязаны сохранять:
-
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий;
-
2) текстовые сообщения пользователей сети Интернет, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения пользователей сети Интернет до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.
Организатор распространения информации в сети Интернет обязан предоставлять указанную сохраненную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами [33, pp. 59–66].
В случае кодирования электронных сообщений пользователем организатор распространения информации в сети Интернет обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений. Уполномоченным подразделением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по получению от организаторов распространения информации в сети Интернет информации для декодирования является Организационно-аналитическое управление Научнотехнической службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации1. Организатор распространения информации в сети Интернет осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения.
Актуальной задачей для полиции на современном этапе развития является получение доступа к информации в режиме реального времени за пределами своих границ. Преступники используют новейшие разработки и технологии, легкость осуществления международных поездок и анонимность виртуальных биз-нес-отношений2. На конференции в Сингапуре указывалось на необходимость совместных действий государственного и частных секторов при раскрытии и расследовании преступлений3.
Первый практический шаг в объединении международных усилий для взаимодействия правоохранительных органов, информационнотехнологических субъектов различных стран для оперативного сохранения и предоставления данных в режиме онлайн был сделан с принятием Конвенции против киберпреступности в ноябре 2001 г. в Будапеште4.
Положения Конвенции предусматривают оперативное обеспечение сохранности хранимых компьютерных данных и частичное раскрытие данных о потоках информации (раз-дел2). При предъявлении требований поставщики услуг должны предоставить «сведения об абонентах», т. е. любую имеющуюся у поставщика услуг информацию о его абонентах, в форме компьютерных данных или любой другой форме, кроме данных о потоках или содержании информации, по которой можно устано-
Ministry of Internal Affairs of Russia; Safe City software and hardware complex; Federal Supervision Service for Communication, Information Technology and Mass Communications (Ross-vyazkomnadzor); Federal Service for Technical and Export Control; Traffic Management Center; bodies serving the Unified System of Identification and Authentication; bodies serving the Unified Biometric System containing biometric personal data; departments of Interpol.
All of the above entities – private and especially state ones – are obliged to keep:
-
1) information on the facts of receipt, transmission, delivery and (or) processing of voice information, text data, images, sounds, video or other electronic messages of the Internet users and information about these users within a year from the date of completion of such actions;
-
2) text messages of Internet users, voice information, images, sounds, video, other electronic messages of Internet users up to six months from the date of their receipt, transmission, delivery and (or) processing.
Web information distributors are obliged to provide the specified information to authorized state bodies engaged in law enforcement intelligence operations or ensuring the security of the Russian Federation in the cases established by
Federal Law [33, pp. 59–66].
If electronic messages were coded by the user, the web information distributor is obliged to submit the information required for decoding the received, transmitted, delivered and (or) processed electronic messages to the federal executive authority in the field of information security. The department of the Federal Security Service of the Russian Federation authorized for receiving information for decoding from web distributors is Management and Analysis Department of the Science and Technology Service of the Federal Security
Service of the Russian Federation1. Web information distributors transfer information for decoding upon the request from the authorized department signed by its head (or deputy head).
Nowadays, the most urgent task for the police is to gain access to information in real time outside the police. Criminals use the latest developments and technologies, ease of international travel and incognito virtual business relationships2. The need for joint action between the public and private sectors in the detection and investigation of crimes was pointed out during the Singapore Conference3.
The first practical step in consolidating international efforts for the interaction of law enforcement agencies, information technology entities of various countries for the rapid storage and supply of online data was made with the adoption of the Convention against Cybercrime in November 2001 in Budapest4.
Provisions of the Convention stipulate operational safety of stored computer data and partial disclosure of data on information flows (Section 2). Upon the inquiry, service providers must submit ‘user information’, i.e. any information that the service provider has about its subscribers in the form of computer data or any other form, except for stream data or content of information using which the following could be established:
-
1 Bulletin of Regulatory Acts of Federal Executive Bodies . 2016. No. 36.
-
2 The INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) is a cutting-edge research and development facility for the identification of crimes and criminals, innovative training, operational support and partnerships. Available at: https://www.interpol.int/en/News-and-
Events/News/2014/INTERPOL-Global-Complex-for-Innova-tion-opens-its-doors (accessed 19.07.2019).
-
3 INTERPOL World: connecting police and private industry for a safer future. Available at: https://www.interpol . int/en/News-and-Events/News/2017/INTERPOL-World-connecting-police-and-private-industry-for-a-safer-future (accessed 19.07.2019).
The Convention on Cybercrime (ETS No.85) [Russ., Eng.] (adopted in Budapest on 23.11.2001). Available at: -convention (accessed 12.07.2019).
вить: а) вид используемой коммуникационной услуги; Ь) личность пользователя, его почтовый или географический адрес, номера телефона и других средств доступа, сведения о выставленных ему счетах и произведенных им платежах, имеющиеся в соглашении или договоре на обслуживание; с) любые другие сведения о месте установки коммуникационного оборудования, имеющиеся в соглашении или договоре на обслуживание (раздел 3).
Одно из важнейших положений Конвенции, необходимых для взаимодействия, закреплены в статье 20, где установлена возможность сбора компьютерных данных в режиме реального времени. На каждую подписавшую сторону возлагается обязанность: собирать или записывать с применением технических средств в режиме реального времени данные о потоках информации; сотрудничать с компетентными органами и помогать им собирать или записывать в реальном режиме времени данные о потоках информации.
В отношении ряда серьезных правонарушений предусматривается перехват данных о содержании (ст. 21). Для этого поставщики услуг должны собирать или записывать их с применением технических средств, сотрудничать с компетентными органами и помогать им в сборе или записи в режиме реального времени данных о содержании указанных сообщений на территории, передаваемых с помощью компьютерных систем.
Заложенные в Конвенции нормы не работают на практике в силу разных причин, связанных с охраняемой законом тайной, гарантиями прав личности, суверенитетом страны, различиями в моделях уголовного преследования. В аннотированной предварительной повестке группы экспертов для проведения всестороннего исследования киберпреступности от 13 апреля 2017 г.1 указывается, что международному сообществу предстоит найти взаимоприемлемый компромисс между различием правовых систем, развитием государств и технической оснащенностью правоохранительных органов, суверенитетом страны, верховенством права и международными обязательствами, пра- вом на неприкосновенность личности, частной жизни и публичным интересом [9, с. 62-84].
Наиболее значительные законодательные изменения и практические шаги в плане взаимодействия, сокращения сроков по получению электронных доказательств и оптимизации правоохранительной деятельности в борьбе с транснациональной компьютерной преступностью были сделаны в юрисдикции Европейского Союза. С 17 апреля 2018 года Европейский парламент утвердил новый Регламент2, который адаптирует механизмы сотрудничества к эпохе цифровых технологий, предоставляет правоохранительным и судебным органам инструменты, позволяющие реагировать на современные способы общения преступников и противостоять современным формам преступности. Это также ускоряет процесс защиты и получения электронных доказательств, которые хранятся поставщиками услуг, учрежденными в другой юрисдикции.
Предлагаемый Регламент вводит обязательные европейские ордера на предоставление (European Production Order) и сохранение электронных данных (European Preservation Order). Оба ордера должны быть изданы или утверждены судебным органом государств а-члена только в том случае, если аналогичная мера доступна для того же уголовного преступления в сопоставимой внутренней ситуации в государстве выдачи. Оба ордера могут быть вручены поставщикам услуг электронной связи, социальным сетям, онлайн-рынкам, другим поставщикам услуг хостинга и поставщикам инфраструктуры Интернета, таким как реестры IP-адресов и доменных имен или их законным представителям, где они существуют. Оба европейских ордера адресуются законному представителю за пределами юрисдикции государства-члена выдачи для сохранения данных с учетом последующего запроса на получение. Европейский ордер о сохранении является приказом, изданным или утвержденным судебным органом в рамках конкретной уголовной процедуры после индивидуальной оценки соразмерности и необходимости в каждом конкретном случае. В случае выдачи ордера в одной стране постав- a) the type of communication service used; b) user personality, his postal or geographical address, phone numbers and other means of access, information about invoices issued towards him and the payments made by him available in the agreement or service contract; c) any other information about the location of the installed communication equipment specified in the service agreement or contract (Section 3).
One of the most important provisions of the Convention necessary for interaction is enshrined in Article 20 stipulating the possibility of collecting computer data in real time is stipulated. Each signatory is obliged to: collect or record information on the information flow using technical means in real time; collaborate with competent authorities and help them collect or record real-time data flow.
For a number of serious offenses, interception of content data is provided (Article 21). To this end, service providers must collect or record data using technical means and cooperate with the competent authorities and help them collect or record in real time data on the content of the messages on the territory transmitted via computer systems.
The regulations stipulated in the Convention do not work in practice due to various reasons related to secrets protected by law, guarantees of individual rights, sovereignty of the country, differences in criminal prosecution models. In the announced preliminary agenda of the expert group on comprehensive cybercrime study on April 13, 20171, it is specified that the international community would have to find a mutually acceptable compromise between the difference in legal systems, development of states and technical equipment of law enforcement agencies, country sovereignty, the supremacy of law and international obligations, the right to inviolability of person, private life and public interest [9, pp. 62-84].
The most significant legislative changes and practical steps to improve cooperation, reduce the time of obtaining electronic evidence and optimize law enforcement in combating transnational computer crime were made in the jurisdiction of the European Union. On April 17, 2018, the European Parliament approved a new Regulation2, which adapts cooperation mechanisms to the digital technology era, provides law enforcement and judicial authorities with tools to respond to contemporary methods of communication between criminals and to counter contemporary forms of crime. This also accelerates the process of protecting and obtaining electronic evidence stored by service providers established in another jurisdiction.
The proposed Regulation introduces mandatory European orders for supply of (European Production Order) and saving electronic data (European Preservation Order). Both orders must be issued or approved by the judicial body of the member country. Such orders may be issued only if a similar measure is available for the same criminal offense in a comparable domestic situation in the issuing state. Both orders can be handed to electronic communication service providers, social networks, online markets, other hosting service providers and Internet infrastructure providers, such as IP address and domain name registries, or their legal representatives (where available). Both European orders are addressed to the legal representative outside the jurisdiction of the issuing member state in order to preserve data considering the subsequent request for receipt. European Preservation Order is an order issued or approved by a judicial authority within a specific criminal procedure after individual assessment of proportionality and necessity in each specific case. If an order is щик услуг или его законный представитель в другом государстве-члене обязаны дать ответ в течение 10 дней и в течение 6 часов в экстренных случаях (по сравнению с 120 днями для действующего европейского приказа о расследовании или в среднем 10 месяцев для взаимного юридического разрешения).
Вывод в части формирования новой стратегии заключается в необходимости электронного взаимодействия органов предварительного расследования не только с органом дознания, но и с негосударственными представителями информационно-технологических систем, аналогичными государственными органами, зарубежными субъектами поставщиков услуг, является залогом быстрого оперативного получения доказательственной информации, формирования на ее основе доказательств.
Внедрение электронного документооборота в уголовное судопроизводство
Датацентричная экономика, информационное общество, переход от документов к данным, цифровизация всех сфер жизни все очевиднее обнажают противоречия уголовного судопроизводства с его архаичной письменной формой. Поэтому документ в условиях цифровизации начинает испытывать на себе многостороннее давление. С одной стороны, давление происходит из-за требований правового государства, уголовно-процессуальной формы, необходимости обеспечения прав и свобод граждан. С другой стороны, из-зи тотального сокращения письменных документов, роста электронного документооборота, информационно-технологического уклада общества, желания оптимизировать уголовное судопроизводство, обеспечить материальную и процессуальную экономию. Именно под влиянием информационно-технологических новаций в последнее время меняется содержание понятия «документ» в семи государственных стандартах.
Если ГОСТ 16487-70 трактовал термин «документ» как «средство закрепления различным способом на специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях объективной деятельности и мысленной деятельности человека», то ГОСТ 16487-83 - как «материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве». В ГОСТе
51141-98 определение термина документа было сформулировано следующим образом: «зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать».
В настоящее время в делопроизводстве термин «документ» и его определение стандартизованы и, согласно ГОСТу Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», термин «документ» формулируется как зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Анализ действующего стандарта говорит о том, что документ - это сложный объект, состоящий из родовых и видовых понятий, к признакам которых относятся: зафиксированная информация; носитель информации; реквизиты; идентификация.
Эволюция содержания термина «документ» происходила и в федеральных законах. К настоящему времени понятия «документированная информация» и «электронный документ» закреплены в статье 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. «Документированная информация» определяется как зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель (и. 11). Электронный документ - это документированная информация, представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (11.1).
На наш взгляд, признаки электронных документов: «пригодность для восприятия человеком», «возможность передачи по информационно-телекоммуникационным сетям», «возможность идентификации» - вполне вписываются в предлагаемую нами новую цифровую стратегию расследования преступлений.
В российском досудебном производстве мы ставим вопрос о внедрении электронного issued in one of the countries, the service provider or his legal representative in another member state is obliged to respond within 10 days and within 6 hours in case of emergency (compared to 120 days for a valid European Order of Investigation or an average of 10 months for mutual legal permission).
Thus, the development of the new strategy requires electronic interaction of preliminary investigation bodies not only with legal inquiry bodies but also with private representatives of information technology systems, similar state bodies, foreign service providers. Such cooperation is necessary to quickly obtain evidence-based information and build proof based on this evidence.
Introduction of Electronic Document Flow in Criminal Proceedings
Data-centered economy, information society, transition from paper documents to data documents, digitalization of all spheres of life are increasingly revealing contradictions of criminal proceedings with its conservative paper form. Therefore, in the context of digitalization the document begins to experience multilateral pressure. On the one hand, the pressure comes from the requirements of the state governed by the rule of law, the criminal procedure form, and the need to guarantee the rights and freedoms of citizens. On the other hand, it results from the total reduction in paper document flow, growth of electronic document flow, the information technology character of society, desire to optimize criminal proceedings and make the process resource-saving. It is due to the influence of information technology development that the content of the ‘document’ concept has recently changed in seven state standards.
GOST 16487-70 interpreted the term ‘document’ as ‘means of recording information on facts, events, phenomena of objective and mental activity of a person in a special way on a special material. GOST 16487-83 defines it as ‘a physical object containing information recorded in the way created by person to transmit it in time and space’. In
GOST 51141-98, definition of ‘document’ was formulated as ‘information recorded on a physical medium with details that allow its identification’.
Currently, in paperwork management, the term ‘document’ and its definition are standardized; according to GOST R 7.0.8-2013 ‘System of standards for information, librarianship and publishing. Paperwork and archiving, terms and definitions’, the term ‘document’ is defined as information recorded on a medium with details that allow its identification.
Analysis of the current standard speaks to the fact that the document is a complex object consisting of generic and specific concepts, the attributes of which include: recorded information, information medium, details and identification.
Evolution in the scope of the term ‘document’ can also be traced in federal laws. At the present time, the concepts ‘documented information’ and ‘electronic document’ are enshrined in Article 2 of the Federal Law ‘On Information, Information Technologies and Information Protection’ of July 27, 2006 No. 149-FZ. ‘Documented information’ is defined as information recorded on a physical medium by means of documenting with details that allow identifying such information or, in cases established by legislation of the Russian Federation, its material medium (Clause 11). ‘Electronic document’ is documented information represented in electronic form, i.e. in the form suitable for human perception using electronic data processing machines, as well as for transmission via information and telecommunication networks or processing in information systems (11.1).
In our opinion, the attributes of electronic documents (‘suitability for human perception’, ‘capability of being transmitted via information and telecommunication networks’, ‘possibility of identification’) very well fit into our new digital strategy of crime investigation.
In Russian pre-trial proceedings, we raise a question of electronic document flow introduction документооборота в двух аспектах. Во-первых, истребование, получение всех значимых данных, находящихся в многочисленных базах данных, их фиксация в электронном виде. Во-вторых, электронная фиксация хода и результатов следственных действий. При развитии обоих направлений существующее законодательство, в силу жесткой, консервативной процессуальной формы, тормозит внедрение электронного документооборота.
Смена мышления законодателя и правоприменителя возможна только после изучения и заимствования зарубежного опыта. В современных условиях цифровизации общества в США сформирована правовая основа для использования электронного документооборота [20, с. 81-87]. В федеральных судах и судах штатов разработаны руководства по использованию электронного документооборота1, правила и регламенты по использованию электронных автоматизированных банков данных [33, рр. 59-66]. Прокуроры и другие участники уголовного процесса должны подавать в суд материалы в электронном виде с использованием системы электронного документооборота подготовки уголовных дел для рассмотрения федеральными судами (Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF) system)2.
Система электронного документооборота (Case Management / Electronic Case Files) - это комплексная система, которая позволяет судам осуществлять электронную регистрацию представляемых доказательств и вести производство дел в электронном виде. Причем представление доказательств в электронном виде является обязательной для адвокатов и всех должностных лиц, осуществляющих судопроизводство {must be electronically filed). Если адвокат подает документы не в электронном виде, то он должен получить на это разрешение суда и объяснить причины несоблюдения обязательной электронной подачи материалов. Каждый участник уголовного процесса должен пройти регистрацию и несет ответственность за под- держание электронного почтового адреса, своей учетной записи, необходимой для получения электронного уведомления о движении дела и принимаемых решениях.
С технической точки зрения это происходит следующим образом. Если участник уголовного процесса представляет доказательственную информацию в электронном виде, то он просто размещает ее в электронное дело на сайте суда. Если же документы представляются в формате Word, то через программное обеспечение они должны быть переведены в формат Portable Document Format с расширением (.pdf). Если документы представляются в бумажном варианте, то они должны быть отсканированы и тоже переведены в формат .pdf с возможностью поиска слов в тексте. Все бумажные документы должны быть отсканированы с четким изображением, с максимальной контрастностью. Суд может не принять сканы плохого качества. Для перевода фотографий из формата jpg files в формат PDF в судах действует инструкция3.
Все вышесказанное позволяет говорить, что в американском уголовном процессе создана система электронного документооборота. Если ранее стороны имели право представлять материалы уголовного дела в суд в электронном виде, то в настоящее время они обязаны это делать. Вся деятельность по управлению электронным документооборотом по уголовным делам регламентируется правилами, руководствами, регламентами судов и иных правоохранительных органов. Система управления электронным документооборотом по уголовным делам позволяет экономить материальные и финансовые ресурсы, обеспечить доступ граждан к правосудию и его прозрачность.
Реорганизация предварительного расследования
Чтобы все перечисленные предложения заработали, требуется реорганизация предварительного расследования и изменения статуса субъектов доказывания. О такой реорганизации давно говорят представители нижегородской школы [1, с. 54-62; 2, с. 49-57]. Другим ярким примером служат подобные пред- from two perspectives. Firstly, it is inquiry, receipt of all significant data from numerous databases and recording them in electronic form. Secondly, it is electronic recording of the course and results of investigative actions. Due to the strict conservative procedural form, the existing legislation impedes introduction of the electronic document flow in both areas.
A change in the way of thinking of the legislator and law enforcer is only possible after studying and borrowing the experience of foreign countries. Under current digitalization of society, the United States has developed a legal basis for application of electronic document flow [20, pp. 81-87]. The federal and state courts have developed guidelines for the use of electronic document flow1, rules and regulations for the use of electronic automated data banks [33, pp. 59-66]. Prosecutors and other participants in the criminal proceeding must submit electronic materials to the court using Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF) system for preparing criminal cases for consideration by the federal courts2.
Case Management/Electronic Case Files system is a comprehensive system that allows the courts to electronically record the filed evidence and provide the file management in electronic form. Moreover, evidence must be electronically filed by lawyers and all officials involved in legal proceedings. If a lawyer does not file documents electronically, he must obtain the court’s permission for this and explain the reasons for non-compliance with the mandatory electronic filing of materials. Each participant in the criminal proceeding must be registered and is responsible for maintaining the email address and his account, which is mandatory to receive electronic notification of the case progress and decisions made.
Technically, this is performed in the following way. If a criminal trial participant provides evidence in electronic form, he just has to upload it in the electronic case file on the court’s website. If the documents are filed in MC Word format, they have to be converted to Portable Document Format (.pdf) using the relevant software. If documents are available as hard copy, they must be scanned and also converted into .pdf format with the option of search by words in the text. All paper documents should be scanned as a clear resolution image with maximum contrast. The court may not accept scans of poor quality. To convert photos from jpg files to PDF, there is special instruction available in the court3.
All of the above allows us to conclude that in the American criminal proceeding system there has been created an electronic document flow system. The parties used to have the right to file materials on the criminal case to the court in electronic form; now it is their obligation - they must do it this way. All activities in electronic document flow management for criminal cases are governed by the rules, guidelines, regulations of the courts and other law enforcement agencies. The electronic document management system for criminal cases saves material and financial resources, provides citizens with access to the system of justice and its transparency.
Reorganization of Preliminary Investigation
For all the above proposals to start working, reorganization of preliminary investigation and change in the status of the subjects of evidence are required. Representatives of the Nizhny Novgorod school have long been discussing such reorganization [1, pp. 54-62; 2, pp. 49-57]. Another good example is similar proposals by representatives ложения представителей Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге для Комитета гражданских инициатив совместно с фондом «ИНДЕМ»1, предлагающих Концепцию комплексной организационно-управленческой реформы правоохранительных органов РФ в досудебный период. Схожие предложения уже продолжительное время развивает Л. В. Головко [5, с. 11-13; 6, с. 24-31].
А. В. Смирнов, давно занимая аналогичную позицию по реформированию досудебного производства [24], вносит конкретные предложения. Он рассматривает предварительное расследование по своей структуре как двухсоставное. По сложной категории дел на первом этапе должно проводиться дознание, состоящее из так называемых полицейских действий в порядке расследования; на втором - судебное предварительное следствие, ведущееся особым следственным судьей, не участвующим в рассмотрении дел по существу. В остальных случаях расследование осуществляется в упрощенной форме в виде прокурорско-полицейского дознания без участия следственного судьи [25, с. 2-33].
Считаем необходимым поддержать эти предложения, так как в результате деформали-зуется предварительное расследование, которое в настоящее время испытывает совсем ненужные проблемы от дифференциации, письменного производства, усложненного порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
Заключение
Цифровая трансформация общества привела к созданию цифровой экосистемы, в которой граждане, бизнес, субъекты информационнотехнологических систем, органы государственного управления взаимодействуют друг с другом в режиме мультиканальности с использованием различных электронных информационных устройств, обеспечивая необходимые удобство и скорость в принятии решений, реализации своих прав и свобод. Как результат формируются и продолжают совершенствоваться высокотехнологичные цифровые платформы взаимодействия во всех сферах, отраслях, государственном управлении, в правоприменительной и правоохранительной деятельности, что оптимизирует сбор управленческой информации.
Переход на платформенную организацию, свойственную современной цифровой датацен-тричной экономике, позволяет подключить к единому информационному пространству людей, устройства и системы, а также обеспечить доступ необходимой информации всем заинтересованным субъектам в режиме реального времени. Преимущества датацентричной экономики можно охарактеризовать как «движимую данными», где решения принимаются на основе анализа огромных массивов информации, так называемых «больших данных». Проще говоря, сегодня выигрывает тот, кто, во-первых, обладает источниками данных и ищет способы их пополнения, а во-вторых, имеет развитую технологическую инфраструктуру для принятия решений.
Цифровая трансформация общества создала информационно-технологическую основу для модернизации предварительного расследования в российском уголовном процессе. Но действующее уголовно-процессуальное законодательство не позволяет применить существующую информационную инфраструктуру в доказательственной деятельности на полную мощность. Для этого нужны законодательные изменения в обозначенных нами направлениях. Внедрение наших предложений приведет к снижению затрат за счет оптимизации процессуальных решений, сокращения времени на производство следственных и процессуальных действий.
Ученые-процессуалисты должны осознать неизбежность перехода в современной цифровой экосистеме «от документов - к данным», т. е. от бумажного документооборота к цифровой форме, что обеспечит сбор, хранение, обработку и упорядочение всех необходимых данных как доказательств на этапе предварительного расследования. Открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия позволят органам предварительного расследования искать, собирать, получать, фиксировать, анализировать и использовать уголовно-релевантную, криминалистически значимую доказательст- of the Institute for the Rule of Law (IRE) at the European University in St. Petersburg prepared for the Committee of Civil Initiatives in cooperation with INDEM Foundation.1 They offer the Concept of Comprehensive Organization and Management Reform of Law Enforcement Bodies of the Russian Federation for the pre-trial period. Similar proposals have been developed by L. V. Golovko for a longtime [5, pp. 11-13; 6, pp. 24-31].
A. V. Smirnov, who has long been following a similar position on reforming pre-trial proceedings [24], comes out with well-defined proposals. He considers the preliminary investigation structure consisting of two parts. For complicated cases, the first phase should include legal inquiry, consisting in the so-called police actions in the form and manner of investigation; the second phase is supposed to be judicial preliminary investigation conducted by a special investigating judge who is not actually involved in the case considering process. For other cases, investigation is carried out in simplified form of the prosecutor and police inquiry without participation of an investigating judge’ [25, pp. 2-33].
We consider it necessary to support these proposals, as they eliminate the formality of preliminary investigation, which is currently experiencing absolutely unwanted problems due to differentiation, paper workflow, and complicated procedures for using the results of law enforcement intelligence operations.
Conclusions
Digital transformation of society has led to the development of digital ecosystem where citizens, businesses, subjects of information technology systems and government interact with each other in the multichannel mode. This interaction is based on the use of various electronic information devices, and it provides the required convenience and speed in decision-making, exercising rights and freedoms. As a result, high-tech digital interaction platforms that optimize the collection of management information are being developed and improved in all areas, industries, public administration, law enforcement and law protection.
Transition to the platform-based organization, which is characteristic of the modern digital data-centered economy, makes it possible to connect people, devices and systems to the common information space as well as to ensure that all the necessary information is available to all the concerned parties in real time. The data-centered economy can be described as ‘data-driven’: decisions are made here based on the analysis of huge amounts of information, the so-called ‘Big Data’. In simple terms, today the winner is the one who, first of all, possesses data sources and looks for ways to replenish them, and secondly, has a developed technological infrastructure for decision-making.
Digital transformation of society has created an information technology basis for the modernization of preliminary investigation in the Russian criminal proceeding system However, the current criminal procedural legislation does not allow using the existing information infrastructure in the evidence building process at full capacity. For this, legislative changes are required in the ten above -listed areas. The implementation of our proposals would lead to cost saving due to optimization of procedural decisions, shorter time required to conduct investigative and procedural actions.
Trial procedure theorists should recognize the inevitability of transition ‘from paper documents to electronic data’ in the contemporary digital ecosystem. It would ensure the transition from paper document flow to its digital form, i.e. would provide collection, storage, processing and sorting of all data necessary as evidence at the phase of preliminary investigation. Open M2M interfaces would allow preliminary investigation bodies to search, collect, receive, record, analyze and use criminally, венную информацию. Таким образом, созданы уникальные возможности для получения достоверной, релевантной и эргономичной информации, необходимой для формирования доказательств. Такие признаки электронных документов, как «пригодность для восприятия человеком», «возможность передачи по информационно-телекоммуникационным сетям», «возможность идентификации», вполне вписываются в предлагаемую нами новую цифровую стратегию расследования преступлений. Но для реализации новой цифровой стратегии расследования преступлений нужны институциональные реформы и перестройка всей системы уголовной юстиции по вышеисследованным направлениям.
Список литературы Формирование новой стратегии расследования преступлений в эпоху цифровой трансформации
- Александров А. С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и право. 2001. № 9. С. 54-62.
- Александров А. С. Реформа полиции, реформа обвинительной власти России - путь к евроинтеграции // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 49-57.
- Александров А. С., Терехин В. В., Кухта А. А. О правовом значении результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы досудебного уголовного процесса // Уголовное право. 2009. № 6. С. 77-81.
- Арасланова В. А., Ахрамеева О. В., Борисов С. А., Бурмистрова Е. С., Жемерикина Ю. И., Захарова С. Г., Мельникова А. С., Михайлов А. К. Информационное общество и глобальная информационная телекоммуникационная инфраструктура: монография. Н. Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2018. URL: http://scipro.ru/conf/monographIT.pdf.
- Головко Л. В. Казахстан: десоветизация уголовного процесса. Статья 2. Унификация досудебного расследования // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1. С. 11-13.
- Головко Л. В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в российском уголовном процессе // Уголовная юстиция: связь времен / сост. А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2012. С. 24-31.
- Зазулин А. И. Использование цифровой информации в доказывании по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 2019. 209 с.
- Зайцев О. А., Пастухов П. С. Зарубежный опыт правовой регламентации работы с цифровыми доказательствами // Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве / под ред. С. В. Зуева. М.: Юрлит-информ, 2018. С. 40-64.
- Зайцев О. А., Пастухов П. С. Электронные доказательства в современных системах права // Основы теории электронных доказательств / под ред. С. В. Зуева. М.: Юрлит-информ, 2019. С. 62-84.
- Зуев С. В. Информационное обеспечение уголовного процесса: метод. рекомендации. Челябинск, 2006. 111 с.
- Зуев С. В. Информационное обеспечение уголовного процесса: дис.... канд. юрид. наук. Омск, 2002. 207 с.
- Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973. 216 с.
- Можаева И. П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: учеб. пособие / Сарат. соц.-экон. ин-т (филиал) ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г. В. Плеханова". Саратов, 2015. 140 с.
- Можаева И. П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 54 с.
- Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России: экспертно-аналитический доклад / под науч. рук. В. Н. Княгинина. М., 2017. 29 с.
- Пастухов П. С., Лосавио М. Использование информационных технологий для обеспечения безопасности личности, общества и государства // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 36. C. 231-236.
- Пастухов П. С. Доктринальная модель совершенствования уголовно-процессуального доказывания в условиях информационного общества. М.: Юрлитинформ, 2015. 352 с.
- Пастухов П. С. Модернизация уголовно-процессуального доказывания в условиях информационного общества: дис.... д-ра юрид. наук. М., 2015. 452 с.
- Пастухов П. С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты объективизации доказательств // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2009. Вып. 3(5). С. 109-118.
- Пастухов П. С. Электронный документооборот в уголовном процессе США // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4 (19). С. 81-87.
- Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. Государство как платформа. (Кибер) Государство для цифровой экономики. Цифровая трансформация. М.: Центр стратег. разработок, 2018. 52 с.
- Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. Н. Новгород: Нижегор. правовая акад., 2001. 220 с.
- Работа полиции. Системы полицейской информации и разведки: пособие по оценке систем уголовного правосудия / ООН. Нью-Йорк, 2010. 44 с.
- Смирнов А. В. О деформализации уголовного преследования на досудебной подготовке дела // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности / сост. К. Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2012. С. 190-196.
- Смирнов А. В. О задаче реформирования предварительного расследования в уголовном процессе // Уголовное судопроизводство. 2018. № 1. С. 2-33.
- Хижняк Д. С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2018. 45 с.
- Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 192 с.
- Drucker P. Managing for Business Effectiveness // Harvard Business Review. 1963. Issue 3. Pp. 53-60.
- Kressel H., Lento Th. V. Competing for the Future: How Digital Innovations are Changing the World. New York: Cambridge University Press, 2007. 422 p.
- Lippman M. R. Criminal Procedure. Chicago: University of Illinois at Chicago, 2014. 648p.
- Manufacturing: The Third Industrial Revolution // The Economist. 2012. Apr 21st.
- Pastukhov P. S., Losavio M., Polyakova S. V. Regulatory Aspects of Cloud Computing in Business Environments // Security, Trust, and Regulatory Aspects of Cloud Computing in Business Environments. 2014. March. Pp. 156-169.
- DOI: 10.4018/978-1-4666-5788-5.ch009
- Pastukhov P. S., Zaytsev O. A., Solovyeva N. A. The Legal and InformationalTechnological Regime of Access to the Secret Protected by the Law at an Initial Stage of Investigation // Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT: Studies in Computational Intelligence. Vol. 826. Volgograd, 2019. Pp. 59-66.
- Technology and Development in the third industrial Revolution / Edited by Raphael Kaplinsky and Charles Cooper. London: Frank Cass, 2005. 109 p.