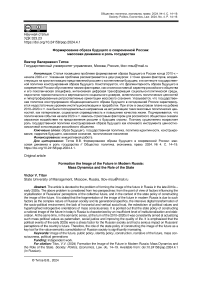Формирование образа будущего в современной России: массовая динамика и роль государства
Автор: Титов В.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме формирования образа будущего в России конца 2010-х - начала 2020-х гг. Указанная проблема рассматривается в двух ракурсах: с точки зрения факторов, воздействующих на кристаллизацию представлений россиян о коллективном будущем, и в контексте государственной политики конструирования образа будущего. Констатируется, что фрагментарность образа будущего в современной России обусловлена такими факторами, как сложносоставный характер российского общества и его поколенческая специфика, интенсивная цифровая трансформация социально-политической среды, недостаток горизонтального и вертикального социального доверия, эклектичность политических ценностей и гипертрофированные ретроспективные ориентации массового сознания. Указывается, что государственная политика конструирования общенационального образа будущего в сегодняшней России характеризуется недостаточным уровнем институционализации и проработки. При этом в смысловом плане на рубеже 2010-2020-х гг. она была последовательно направлена на актуализацию таких массовых политических ценностей, как патернализм, социальная справедливость и повышение качества жизни. Подчеркивается, что политические события начала 2020-х гг. явились стрессовым фактором для российского общества и оказали серьезное воздействие на представления россиян о будущем страны. Поэтому существенно возрастает роль государственной политики конструирования образа будущего как ключевого инструмента ценностно-смысловой консолидации российского общества.
Образ будущего, государственная политика, политика идентичности, конструирование, нарратив будущего, массовое сознание, политические поколения
Короткий адрес: https://sciup.org/149145333
IDR: 149145333 | УДК: 323.23 | DOI: 10.24158/pep.2024.4.1
Текст научной статьи Формирование образа будущего в современной России: массовая динамика и роль государства
Введение . Проблема формирования коллективного образа будущего в современной России занимает существенное место среди приоритетов отечественной социогуманитарной и, в частности, политической науки. Её значимость определяется как прикладной задачей поддержания устойчивости российской политической системы, так и нарастающей турбулентностью внешней среды, кризисными тенденциями развития «глобального мира», прямо или косвенно оказывающими негативное влияние на российское общество, его ментальное состояние и политические перспективы.
Вопросы, связанные с концептуализацией образа будущего и его содержательным наполнением в сегодняшней России, получили отражение в работах отечественных исследователей-политологов (Батанина, Лаврикова, Шумилова, 2023; Усманова, Смулькина, 2023; Зорин, Титов, 2023; Токарев и др., 2022; Волков, 2019). В то же время анализ указанных исследований позволяет выявить и очевидный дисбаланс в формировании проблемного поля образа будущего. Речь идёт о том, что вне фокуса внимания ученых остается такая важная ниша, как деятельность государства в сфере конструирования массовых представлений о будущем.
Представляется, что исследуя проблему формирования образа будущего в современной России, следует четко разграничивать два ее ракурса. Первый ракурс – это эволюция массовых представлений о будущем России как национально-государственного сообщества. Второй ракурс – это государственная политика конструирования образа будущего, которая является (наряду с политикой памяти) одним из двух стержневых направлений государственной политики идентичности.
Материалы и методы . Методологическим фундаментом исследования выступает иденти-тарный подход, а именно современные теории макрополитической и национально-государственной идентичности (Андерсон, 2016; Малинова, 2010; Титов, 2022). Согласно им образ будущего – есть компонент структурного поля идентичности, а политика конструирования образа будущего – одно из приоритетных направлений политики идентичности, проводимой государством (Зорин, Титов, 2023). Важное место при определении методологических рамок исследования отведено теориям социального конструктивизма (Бергер, Лукман, 1995; Андерсон, 2016; Малинова, 2010; Castells, 2004) и социальных представлений (Abric, 1993; Simon, 2004; Московичи, 2011; Емельянова, 2006).
Для анализа особенностей формирования и трансформации образа будущего в представлениях россиян использовались данные, полученные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Для оценки особенностей государственной политики в сфере конструирования образа будущего использован интент-ана-лиз, предполагающий выделение ключевых смысловых конструктов в рамках нарративов будущего, представленных в посланиях Президента России Федеральному собранию РФ и иных стратегических политических документах.
Особенности кристаллизации образа будущего в российском массовом сознании конца 2010-х – начала 2020-х гг . Размышляя об образе будущего на рубеже 2010-х–2020-х гг., прежде всего, следует обратиться к макрополитическим, психологическим и социокультурным факторам, влияющим на его становление. Так, В.С. Комаровский выделил следующие факторы кристаллизации образа будущего в российском массовом сознании: глобальные изменения и становление нового технологического уклада, вхождение в активную жизненную фазу поколения Z, «исчерпанность потенциала роста у экономической модели, принятой на вооружение в России в начале нулевых годов» (Комаровский, 2020: 47). И хотя речь шла о российской молодежи, ее представлениях о будущем, можно весьма уверенно говорить о том, что факторы значимы для всего российского общества начала 2020-х гг. Очевидно, что всепроникающая цифровая трансформация, особенности поколенческой структуры российского социума (и в частности, всё более активные притязания поколений «миллениалов» и «зумеров» на собственную политическую субъектность), признаки социально-экономической турбулентности – все эти переменные серьезно воздействуют на массовые представления о будущем, предопределяют нестабильность и, отчасти, негативный фрейм восприятия коллективного будущего (Зорин, Титов, 2023).
Показательно, что современные отечественные исследователи признают тот факт, что в российском массовом сознании не сложился единый, консолидирующий общенациональный образ будущего. Так, генеральный директор ВЦИОМ В.В. Федоров говорит, что сегодня в социальном пространстве России сосуществуют четыре разнонаправленных образа будущего: «комфортная Россия», «техно-гаджет-будущее», «справедливая Россия» и «великая Россия». По его мнению, данные образы, различаясь по своей ценностно-смысловой направленности, частично пересекаются друг с другом, порождая прообраз «СССР 2.0» – страны с рыночной экономикой, лишённой советской идеологии, но прочно консолидированной в ценностном плане, в которых государство и граждане ориентированы на социальную справедливость и сокращение экономического неравенства1.
Во многом схожего мнения придерживаются и эксперты Фонда прогрессивной политики, которые также представили четыре сценария вероятного будущего России: «СССР 2.0.», «НЭП 2.0.», «евразийский полюс» и «нация Z». Крайними в данной сценарной палитре являются модели развития «СССР 2.0» и «нация Z». Первый предполагает возврат к относительно экономически замкнутому развитию в условиях геополитической конфронтации со странами Запада, второй – политическую либерализацию и акцент на внутренние проблемы страны (демографическая ситуация, миграция, качество жизни и т. д.). Примечательно, что эксперты подчеркивают: каждый из указанных сценариев имеет под собой весомые политико-психологические предпосылки, проистекающие из состояния российского массового сознания, и обусловлен существующими общественными запросами на социальные изменения1.
Важнейшая тенденция начала 2020-х гг., о которой говорят исследователи – это сосуществование в российском массовом сознании запроса на перемены в сочетании с выраженными реминисцентными сюжетами. Будущее мыслится россиянами, с одной стороны, в русле неизбежности серьезных социально-политических изменений, а с другой – сквозь призму возвращения статуса сверхдержавы, геополитического реванша России в борьбе с «коллективным Западом» (Усманова, Смулькина, 2023). Рассматривая влияние политических реминисценций на содержание массовых представлений о будущем России, Н.В. Смулькина и Н.Н. Рогач отмечают: «конструирование ретроориентированных образов будущего России зачастую сопровождается этатистскими сюжетами, ориентациями на сильное и независимое государство, способное обеспечить защиту, осуществить государственное прогнозирование, предупредить внешние угрозы, ответить на вызовы. Это формирует неосознаваемое стремление воспринимать современную Россию сильной, мощной державой» (Смулькина, Рогач, 2022: 101).
Рассматривая процесс генерирования образа будущего в российском массовом сознании сквозь призму ценностной составляющей, можно заметить, что в российском обществе сегодня эклектично соседствуют ценности принципиально различного характера. С одной стороны, социологические исследования 2020-х–2023-х гг. свидетельствуют о преобладании той группы ценностей, которая обобщенно может быть охарактеризована как государственно-патерналистские ценностные ориентации2. С другой стороны, исследователи сталкиваются с таким явлением, как аберрация смыслов: ситуацией, когда одни и те же декларируемые базовые ценности (справедливость, патриотизм) наполняются принципиально разным когнитивным содержанием. Более того, значимой проблемой является то, что некоторые из этих ценностей, будучи субъективно важными для россиян, не являются триггерами позитивного гражданского и политического поведения (Титов, 2023).
На наш взгляд, существенным препятствием формированию общенационального, массового разделяемого образа будущего в современной России является крайне невысокий уровень социального доверия во всех его измерениях. Причем, речь идёт как о доверии к властным институтам, так и о дефиците доверия на микросоциальном (межличностном) уровне. Так, согласно данным, приводимым Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 70 % россиян считают, что в российском обществе люди относятся друг к другу, скорее, с недоверием. 54 % – что «за последние годы» люди в России стали меньше доверять друг другу. 67 % респондентов полагают, что «с людьми нужно быть поосторожней» 3 . Безусловно, указанная ситуация зримого недостатка доверия (и косвенно – неуверенности в собственной безопасности) – есть во многом отражение фрустрационной тенденции, которая четко обозначилась в российском обществе во второй половине 2010-х гг., артикулируя себя в виде негативного психоэмоционального импульса – предельно аморфного в содержательном плане, но аффективно выраженного «запроса на перемены». Следует полагать, что пандемия COVID-19 и последующая политическая динамика способствовали усугублению данной тенденции, которая, не став превалирующей, тем не менее, сокращает потенциал общенациональной консолидации, негативно влияет и на текущее эмоциональное состояние общества, и на восприятие значительной частью россиян социальных перспектив – и своих собственных, и России в целом4.
Государственная политика конструирования образа будущего в России . Говоря о государственной политике конструирования образа будущего, следует выделить несколько важных ее структурных и функциональных ограничений. Во-первых, необходимо понимать, что предлагая тот или иной общенациональный образ будущего, государство исходит из представлений о некотором желаемом будущем, то есть в существенной мере апеллирует именно к эмоциональному компоненту массового политического сознания. Во-вторых, общенациональный образ будущего (в отличие от индивидуального) – по определению интегративный и крайне вариативный конструкт, обращенный к различным сегментам общества и стремящийся абсорбировать разнообразные сюжеты будущего, циркулирующие в социальном пространстве. Поэтому наиболее сложным с точки зрения выработки консолидирующего образа будущего представляются именно многосоставные – полиэтничные и культурно неоднородные сообщества. В этом смысле феномен «России разных скоростей» – ситуация, когда многообразие этнорегиональных идентичностей и социокультурных укладов наслаивается на экономические размежевания – является если не фундаментальным препятствием, то серьезным фактором, снижающим эффективность государственной политики в сфере конструирования общенационального образа будущего.
Немаловажно, что интегративный нарратив будущего, который пытается конструировать государство, всегда является контекстуальным по характеру своего восприятия. То есть восприятие (принятие или отторжение) отдельных его сюжетов со стороны общества напрямую связано и с динамикой доминирующих социально-политических настроений, и с особенностями конституирования политической картины мира национального сообщества. В связи с этим следует обратить внимание на ключевую проблему в соответствии государственного «дискурса будущего» (образа будущего, предлагаемого действующей властью) социально-политическим запросам общества. Критически важным в данной конструкции является поддержание эффективной обратной связи между властными институтами и обществом, способность государства привести разнообразие социальных ожиданий и требований, исходящих от различных социальных групп, к единому политическому знаменателю.
Следует отметить, что в конце 2010-х – начале 2020-х гг. в государственном нарративе, конструируемом вокруг проблемы будущего, проявилась и такая черта, как попытка выстроить его связь с микросоциальным уровнем – рассматривать образ будущего России преимущественно в контексте «пространств повседневности». Наиболее внятно такое стремление «приблизить» государственный образ будущего к социальной повседневности выразил Президент России В.В. Путин: «крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей – по сути, и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно»1.
Указанный взгляд, безусловно, важен с точки зрения взаимной интеграции государственнополитического и повседневного («низового») уровней кристаллизации образа будущего, сокращения дистанции, неизбежно существующей между обществом и государством. Более того, акцент на демографический компонент развития страны и поддержка семьи может рассматриваться как последовательная смысловая линия, проводимая высшим политическим руководством России. Например, в Послании Президента Российской Федерации 2019 года было сказано: «для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего»2.
Однако, по нашему мнению, подход, направленный на интеграцию микросоциальных представлений и государственно-политических целей в рамках единого образа будущего, может рассматриваться двойственно. С одной стороны, очевидно, что устойчивость общенационального образа будущего в его макрополитическом измерении должна органично и прочно опираться на соответствующие микросоциальные представления о будущем. Данное обстоятельство представляется важным и с точки зрения стимулирования политического участия, и с точки зрения преодоления негативных производных «дистанции власти» – повышения уровня доверия россиян к долгосрочным стратегическим инициативам, выдвигаемым государством. С другой стороны, избыточный акцент на микросоциальный уровень («рутинизация» сюжетов будущего) может приводить и к частичному размыванию, вытеснению на периферию массового сознания представлений об общенациональном будущем в его макрополитическом разрезе – перспективах России не как совокупности граждан (с их прагматическими частными интересами), а именно политико-исторического и геополитического образования.
Анализ посланий Президента России Федеральному собранию РФ последних пяти лет (2019–2024) показывает, что нарратив будущего, предлагаемый действующей властью, был основан на сочетании социально-патерналистских и преобразовательных мотивов, связанных, прежде всего, не с политическими, а социально-экономическими изменениями, ростом уровня и качества жизни российских граждан, решением насущных демографических задач. Так, в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Президент России В.В. Путин отметил: «наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет»1.
В ракурсе проблемы повышения качества жизни, понимаемой как общенациональная стратегическая задача, следует рассматривать и Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В нём среди ключевых индикаторов успешности развития России обозначено радикальное снижение уровня бедности (в два раза по сравнению с показателем 2017 года)2.
Говоря о ценностных основаниях государственной политики формирования образа будущего, следует, прежде всего, упомянуть Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»3. В нём, в частности, говорится о таких перспективных целях и задачах, как обеспечение межпоколенческой преемственности ценностных оснований российского общества и укрепление общероссийской гражданской идентичности. Безусловно, и постановка подобных задач, и их нормативное закрепление, являются важным шагом в рамках генерирования и поэтапной концептуализации государственного нарратива будущего. Однако по-прежнему актуальным является более острый вопрос, связанный с пока не завершенным поиском действенных механизмов реализации государственной политики формирования образа будущего, адекватных политическим вызовам начала ХХI века (Титов, 2022).
Заключение . Таким образом, можно сделать вывод, что вектор политики формирования образа будущего в современной России в целом соответствует запросам большей части российского общества. Точкой пересечения нарратива будущего, предлагаемого государством, и массовых политических ожиданий является социальная сфера – проблема повышения качества жизни, а также сохранение предсказуемой траектории развития российской государственности при условии повышения эффективности ключевых властных институтов. Однако события начала 2020-х гг. – пандемия COVID-19 и начало Специальной военной операции на Украине – явились стрессовыми факторами для значительного числа российских граждан, привели к критической переоценке ими собственных представлений о будущем страны. В этих условиях серьёзно возрастает важность такой задачи, как дальнейшая концептуальная проработка и частичная институционализация государственной политики формирования образа будущего, детализация её мотивационных и смысловых оснований.
Список литературы Формирование образа будущего в современной России: массовая динамика и роль государства
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В.Г. Николаева. М., 2016. 416 с.
- Батанина И.А., Лаврикова А.А., Шумилова О.Е. Образ будущего страны: восприятие региональным сообществом // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2023. Вып. 1. С. 13–19. https://doi.org/10.24412/2071-6141-2023-1-13-19.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 323 c.
- Волков Ю.Г. Образы будущего в формировании российской идентичности // Социально-гуманитарные знания. 2019. № 1. С. 81–98.
- Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М., 2006. 400 с.
- Зорин В.Ю., Титов В.В. Образ будущего в современной России: концептуальные рамки и специфика политологического анализа // Вопросы политологии. 2023. Т. 13, № 7 (95). С. 3288–3297. https://doi.org/10.35775/PSI.2023.95.7.008.
- Комаровский В.С. Образ желаемого будущего России: проблемы формирования // Власть. 2020. № 1. С. 45 –50. https://doi.org/10.31171/vlast.v28i1.7041.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. 2010. № 2. С. 90–105.
- Московичи С. Век толп: исторический трактат по психологии масс. М., 2011. 396 с.
- Смулькина Н.В., Рогач Н.Н. Образы прошлого, настоящего и будущего России: символическое измерение // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2022. Т. 15, № 5. С. 89–106. https://doi.org/10.31249/kgt/2022.05.05.
- Социология российского образа будущего: предварительные результаты / А.А. Токарев [и др.] // Полис. Политические исследования. 2022. № 5. С. 117–136. https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.09.
- Титов В.В. Государственная политика идентичности в Российской Федерации: проблема институциональной организации // Вопросы политологии. 2022. Т. 12, № 7 (83). С. 2261–2268. https://doi.org/10.35775/PSI.2022.83.7.012.
- Титов В.В. Патриотизм в структуре национально-государственной идентичности российской молодежи // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 11. С. 50–55. https://doi.org/10.24158/pep.2023.11.5.
- Усманова З.Р., Смулькина Н.В. Актуализация образов прошлого в представлениях граждан о будущем России // Политическая наука. 2023. № 2. С. 254–272. https://doi.org/10.31249/poln/2023.02.11.
- Abric J.-CI. Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamics of social representations // Papers on social representations. 1993. No. 2. P. 75–78.
- Castells M. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford, 2004. 537 p.
- Simon B. Identity in modern society: A social psychological perspective. Oxford, 2004. 244 p.